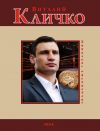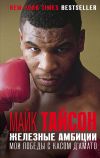Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 46 (всего у книги 53 страниц)
Сейчас дело идет к четвертому перевороту. Абсолютная уникальность последних трех веков, включая нынешний, – в том, что началось все с пара (англичанин мудрец Джеймс Уатт, напомним, изобрел паровую машину), а закончилось пока что микрочипами и «нобелевкой» английскому физику Питеру Хиггсу и его бельгийскому коллеге Франсуа Энглеру, предсказавшим существование бозона Хиггса, гипотетической частицы, обеспечивающей массу всех других элементарных частиц, – ее существование было подтверждено на Большом андронном коллайдере в Европейском центре ядерных исследований. Где-то посредине двадцатого века нашлось место для создания ядерной бомбы и выхода в космос. Ну а формирование сети Интернет стало точкой отсчета для очередного культурного переворота, происходящего сейчас, в эпоху формирования информационного общества. Движущей силой всех этих изменений было то, что человек овладевал искусством управления энергией.
Вернемся в Лондон, но не олимпийский, а блейковский. По его учению, добро и зло были диалектически связаны: разум и энергия, любовь и ненависть одинаково необходимы для человеческого существования. «То, что в религии называется “злом”, – утверждал Блейк, – это “энергия”. Разум – лишь внешняя поверхность энергии».
6 августа, один из дней лондонской Олимпиады, неопровержимо подтвердил связь добра и зла в жизни человечества, утоляющего свою врожденную любознательность и в научных лабораториях, и в бесконечном (уютном) космосе, и с помощью страстотерпцев современного атлетического агона, выступающих разведчиками рода homo sapiens на его пути от возможного к невозможному.
Летом 2012 года человечество сделало еще один шаг в понимании происхождения масс элементарных частиц, и маленький-маленький шажок в понимании игры. Маленький, потому что, как заметил современный философ, понимание атома – детская игра по сравнению с пониманием детской игры.
Нерасторжимую связь добра и зла можно проследить как раз на примере шестого дня августа. Рано утром 6 августа радиостанция «Эхо Москвы» напомнила, что сегодня 67‑я годовщина со дня атомной бомбардировки американцами Хиросимы, а через несколько минут после рассказа об ужасной годовщине безумнейшего деяния в истории журналисты «Эха» завершили репортаж с судебного процесса над Pussy Riot в спортивном ключе: «Планка безумия уже взята. Дальше идти некуда».
Почему же некуда: пределы имеет ум человеческий, а глупость, как и безумие, беспредельны…
Помню, как в Лужниках в конце пятидесятых мы с однокурсниками из ЛГУ смотрели французский фильм «Хиросима – любовь моя».
Хиросима. Япония. Токийская Олимпиада 1964 года.
«До Токио олимпийский огонь вносил на стадион кто-либо из великих спортсменов. В 1964‑м эта традиция была нарушена: факел внес на стадион девятнадцатилетний японский студент Иосинора Сакаи. В августе 1945‑го, когда, казалось, уже догорает пожар Второй мировой войны, над Японией появились американские самолеты и сбросили атомную бомбу. В тот день в аду Хиросимы родился Иосинора Сакаи, став символом жизни, восставшей против смерти».
Цитирую по большому настенному олимпийскому календарю на 2012 год, который его авторы, питерские художники-дизайнеры Давид Авакян и его жена Ольга Лосева, подарили мне в дни лондонской Олимпиады, когда человечество отмечало очередную годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. На обороте листа с августовским календарем – постер с главным героем XX Олимпиады американским пловцом Марком Спитцем, выигравшим семь золотых медалей и установившим семь мировых рекордов. Для нас, питерцев, ленинградцев, главными героями Мюнхена были советские баскетболисты, ведомые Владимиром Кондрашиным, победившие родоначальников баскетбола – американцев на Олимпиаде, оказавшейся из-за крови израильских спортсменов, убитых террористами, самой скорбной в истории.
Не ужас чуда в честертоновской трактовке, а просто ужас как состояние самопожирающего себя человечества.
Не хочется, однако, заканчивать столь пессимистично главу о XXX летних Олимпийских играх, о ее хозяевах, земляках мудреца и волшебника Честертона, ставших главными героями праздника спорта, который, по Кубертену, сближает людей, жаждущих единства.
Великобритания стала третьей в общекомандном зачете, пропустив вперед только двух супергигантов – США и Китай и опередив Россию, впервые оказавшуюся за пределами первой тройки медального зачета. Но главное достижение англичан не в этом…
Я никогда не был в Англии, хотя для меня с самого детства Англия – страна души, как Греция, Япония, Грузия, не говоря уж о своем отечестве. Неужели, думал я, наблюдая за чудесами спортивными, никто из моих коллег не отметит атмосферу единения, единства того лета на туманном Альбионе, не только жажду единства соперничающих атлетов десятков стран, но и всеобщего единства островитян, сплотившихся в одну команду, питаемую энергией боления за свою страну, энергией патриотизма?!
Патриотический угар, пропитывающий реляции с олимпийских арен, пьянит головы пишущих, вещающих. Спесь победы искажает порой и лица чемпионов, а не только болельщиков. Тому в истории мы тьму примеров видим. Этого добра хватало и в дни лондонской Олимпиады… Но на фоне барабанной трескотни профессиональных патриотов, воспевателей побед наших, своих, я с удовольствием, граничащим с изумлением, на следующий день после завершения Олимпиады прочитал в «Российской газете» статью ее собственного корреспондента в Лондоне Ольги Дмитриевой, которой за многие годы работы на Альбионе не доводилось видеть здесь такого мощного прилива патриотизма, такого колоссального подъема общественной энергии и такого впечатляющего всеобщего единства.
«А между тем в славные дни Олимпиады Британия отметила дату печальную, – напомнила своим российским читателям Ольга Дмитриева. – Ровно год назад, в такие же дни августа, здесь стряслось чрезвычайное происшествие, поставившее под вопрос состояние здоровья и гражданской целостности всего британского сообщества. На несколько дней страна оказалась парализована беспрецедентными по размаху и жестокости мятежами и погромами, затеянными хулиганствующими молодчиками из беднейших, заселенных преимущественно иммигрантами, городских окраин. Эта спонтанно вспыхнувшая буза была поддержана десятками тысяч тех, кого до той поры считали нормальными и добропорядочными гражданами… Худшего позора в преддверии Олимпиада британцам не могло привидеться в страшном сне. Мало кто мог поверить тогда, что всего лишь год спустя страна будет брататься, радуясь победам своих соотечественников. Мало кто мог поверить, что Олимпиада обернется настоящим общенародным торжеством для всего многонационального, мультикультурного британского сообщества…»
У кого что болит, тот о том и говорит. И работающая в Лондоне российская журналистка, говоря вроде как о спорте, отдает себе отчет, что дело отнюдь не только в спорте, а в национальной гордости, и приветствует мудрость курса нынешнего правительства Британии на ее превращение в страну чемпионов, т. е. людей, способных побеждать. Современные англичане-мудрецы, чтоб экономике помочь, не только изобретают новые машины, но и вкладывают инвестиции в национальную гордость и патриотизм.
Спорт способен на разные чудеса. Он может не только пробудить национальную гордость, но человечество объединить и нацию. Еще неизвестно, что легче сделать.
2013
Часть IV. Мы близимся к началу своему
Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему…
Кому ж из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?
Александр Пушкин
Октябрьская метель 1936‑го. Мама и бабушка
В ночь на 19 октября 1992 года мне приснилось 19 октября 1936 года, когда я родился в карельской деревне Лембачево на берегу реки Шуи. Давно уже нет этой деревни. И мамы давно нет. И бабушка, принимавшая роды у своей дочери, моей мамы, в доме на берегу порожистой, с сильным течением реки, несущей свои воды в Онего, давно умерла.
Я проснулся среди ночи и неожиданно для себя написал об этом стихотворение. Вообще-то стихов не пишу, так, рифмованные тексты друзьям в альбом, как сказали бы в старину, но и свое рождение, о котором я знал из рассказов бабушки, мне приснилось впервые, и поскольку заснуть уже не мог, то включил настольную лампу, достал дневник и записал-зарифмовал приснившееся мне рождение.
Я родился в метель, в октябре, на Шуе
С головою в форме туркменской дыни.
Мимо окон неслись ледяные струи,
Как несутся они под мостом и поныне.
Гладя пальцами темя, из дыни тыкву
Моя бабушка сделала за полгода.
В этой сфере хитиновой никогда не привыкну
Дни свои проводить: другая природа.
От обмятого темени маята, колготня,
Я устойчив в одном состоянии – паники.
Дом водою снесен. Не шумит ребятня.
Мыши съели крупу и засохшие пряники.
Нет ни дома, ни мамы. Я сбился с пути.
Голова как будто чужая.
Мне своих следов в буран не найти,
И я падаю в снег и в снегу засыпаю.
Когда-то, в школьные годы, я вел читательские дневники, надолго меня не хватало, поскольку я не был человеком текста, и если предпочитал единственную игру, в которую стоит играть всю жизнь – рассказывать, то вовсе не стремился фиксировать свои рассказы на бумаге, пленке, холсте. Меня вполне упоевали галлюцинации, сны наяву, мечтания, мыслеобразы, как только не называют эти толпящиеся в сознании видения, отрефлексированные и отправленные в подполье бессознательного, чтобы высвободить в сознании место для новых впечатлений.
Созерцатели с визионерской подкладкой редко бывают людьми текста. Собственно, и не все пишущие – профессиональные журналисты, литераторы – относятся к ордену «письменников». Я-то уж точно не отношусь, хотя накарябал пером тысячи текстов. Никогда не печатал на машинке, на пушечный выстрел не приближаюсь к клавиатуре компьютера, даже карандашом и шариковой ручкой делаю только записи в блокнотах – писал и пишу перьевой ручкой.
Встретил в жизни одного безусловного человека текста – во дворе дома по проспекту Карла Маркса в Петрозаводске, где жил мой друг, талантливый писатель, главный редактор журнала «Север» Олег Тихонов. Однажды, 18 января, в день рождения Олега, направляясь к нему в гости, я увидел валяющихся в снегу ребятишек, сразился с ними в снежки и узнал, что заводил их компании зовут Машка Дефект и Сашка Текст. Машка, рослая щекастая девочка с крупными, выпяченными, как у суслика, зубами, терроризировала остальных, из-за чего я и вмешался, но, выяснилось, ничего страшного: они просто баловались. Особенно доставалось от нее мелкому очкарику Сашке, не желавшему сдаваться. Ему на помощь я и поспешил, но настырный шкет в помощи вовсе не нуждался. «А почему ты Текст?» – спросил я. Сашка пожал плечами, а Машка завопила: «Потому что читает, дурак, день и ночь и глаза испортил». Уже дома, у Тихоновых, я узнал, что Дефект и Текст – брат и сестра.
Сашка Текст на поверку оказался вовсе не человеком текста, а таким же, как я, читарем, как называла меня бабушка Татьяна Прохоровна, с которой я прожил почти полжизни. И профессию бумагомараки, если разобраться, выбрал потому, что рожден был читарем и созерцателем.
Выстраивается такая цепочка. Если ты прирожденный читарь, твоя главная, неутолимая страсть – читать. Если склонен к созерцанию, снам наяву, значит тебе интереснее всего читать самого себя. Но кто ты такой, чтобы о тебе писали и ты, соответственно, мог про себя прочитать: Будда, Христос, Сократ, Пушкин, Лев Толстой, Гагарин, Ганди, Пеле, Бобров, Таль?! То-то и оно, не дождешься, пока напишут. Да если и дождешься, такое напишут, что не поздоровится. Глупость несусветная, что со стороны виднее. Лучше всего человек знает себя сам. Другие, даже самые проницательные, судят тебя по делам, поступкам, но только ты сам знаешь мотивы поступков. Остается одно: взять в руки перо…
«Перо в наших руках подобно стрелке сейсмографа, и, в сущности, это не мы пишем – нами пишут. Писать – значит читать самого себя».
Макс Фриш, послевоенные дневники которого я прочитал в 1988 го ду, окончательно убедил меня в том, что я давно знал: писать означает читать самого себя. Импульсы к писанию могут быть самыми разнообразными. Мне, несмотря на запойное и хаотичное книгочейство, несмотря на опасную привычку думать о чем попало, хотелось разобраться в себе самом – далеко не на все вопросы находил я ответы в гутенберговой галактике, в игре, в дружбе, в любви, в природе, во всех чудесах, которые открываются перед вступающим в жизнь. Больше всего чудес, открытий подарило мне детство, которое пришлось на страшную войну с бомбежками, обстрелами, смертями близких и на послевоенное неустройство, сиротство (я рано потерял отца и мать), непонимание, одиночество…
Наше школьное образование ни в сороковые-пятидесятые, когда я сидел за партой, ни тогда, когда учились моя дочь, окончившая десятый класс в семьдесят восьмом, и мой внук, полу чивший аттестат зрелости в 2004‑м, не включало в себя преподавание философии. Правда, в моей петрозаводской школе, в десятом классе появился урок логики, его вела полная пожилая дама холерического темперамента, эрудированная, умная, с ней можно было и поспорить: на почве любви к Аристотелевой логике у нас были приязненные отношения, хотя однажды она выгнала меня, болтавшего на последней парте с Региной Поспеловой с предпоследней парты, с урока, предварительно метнув в меня увесистую мокрую тряпку, которой стирала с доски разнообразные фигуры, силлогизмы и имена Платона, Пифагора, Канта, Гегеля, Маркса…
С Бусей Яковлевной Гольдштейн (так звали нашу учительницу, она вела курс логики в местном пединституте) мы, если позволительно так сказать, изучили несколько дебютов главной философской партии, разыгрывать которую лучше всего в пору «начала своего», то есть детства.
Главная партия имеет непосредственное отношение к образованию. «Мы знаем, что вокруг слова образование, Bildung, а значит и вокруг педагогики и преобразования, в философской рефлексии со времен Пифагора и Платона разыгрывается главная партия, – писал французский философ второй половины XX века Жан-Франсуа Лиотар. – Она исходит из того, что человеческий ум не дан людям как следует и должен быть преобразован. Чудище философов – это детство. Детство говорит им, что ум не дан. Но что он возможен».
Ум не дан, но возможен. Учитель, рассуждает далее Лиотар в книге «Постмодерн в изложении для детей» (в Париже она увидела свет в 1988‑м, в Москве через двадцать лет), помогает возможному уму, поджидающему в детстве, осуществиться. Но необходимо и самообразование. Философствование – это прежде всего самоучение.
Я упорно читал в детстве философские книги, которые не понимал, – Канта, Гегеля, Маркса, но обсудить это было не с кем, да и не знал я тогда, что это не бесцельно растраченное время. Много лет спустя, став отцом взрослой дочери, тянувшейся со школьных лет к психологии, истории религии, философии, учившейся на психологическом факультете моей alma mater – ЛГУ («Дом, именуемый глаголом ЛГУ, пустынных волн стоял на берегу и вдаль глядел», – напишет мой сокурсник по филфаку ЛГУ Лев Лосев, умерший 6 мая 2009 года), я прочитал «Автобиографию» Робина Джорджа Коллингвуда, автора классического труда «Идея истории». Главную книгу своей жизни английский мыслитель не успел завершить в разгар Второй мировой войны, и она была издана после его смерти, а в русском переводе появилась в год московской Олимпиады, когда Таня, дочь, похожая на мою маму, окончила второй курс психфака Ленинградского университета.
«Идею истории» прочитал с интересом, «Автобиографию» – с восторгом, ибо нет на свете чуда, сравнимого с человеческой мыслью! С восторгом и горечью, поскольку у меня не было отца, который бы воспитывал и образовывал меня, как отец Робина, который в четыре года начал изучать латынь, в шесть греческий и примерно в том же возрасте, уже по собственной инициативе, без отцовского принуждения принялся читать все, что мог отыскать, по естественным наукам – геологии, астрономии, физике.
«У моего отца было множество книг, и он представлял мне полную свободу читать их, – пишет в “Автобиографии” Коллингвуд. – В его библиотеке были книги и по классической филологии, античной истории и философии. Он занимался по ним в Оксфорде. Как правило, я не прикасался к ним. Но однажды, когда мне было восемь лет, любопытство толкнуло меня снять с полки маленькую черную книгу, на корешке которой стояло: “Кантовская теория этики”… Когда я начал читать ее, втиснув свое маленькое тело между книжным шкафом и столом, меня охватили странные эмоции. Сначала сильное возбуждение. Я почувствовал, что книга говорит что-то чрезвычайно важное о предметах, имеющих для меня самое насущное значение, и любой ценой я должен это понять. Затем, испытав негодование, я осознал, что ничего не могу понять…И наконец настала очередь третьего переживания, может быть самого странного из всех. Я ощутил, что содержание этой книги, хотя я и не в силах понять его, стало каким-то странным образом моим собственным делом, делом, касающимся меня лично или, скорее, делом моего будущего “я”… У меня возникло ощущение, что на меня возложена какая-то задача, характер которой я не мог точно определить. Единственное, что о ней можно было сказать, так это: “Я должен мыслить”. О чем мыслить, я не знал».
Отец Коллингвуда был художником, писателем, личным секретарем и автором двухтомной биографии выдающегося английского теоретика искусства и социального реформатора Джона Рёскина. Мой отец был агрономом, по воинской специальности артиллеристом, командиром батареи. С войны с белофиннами, как ее у нас называли, он не вернулся: осколок финского снаряда в один из январских дней сорокового года угодил в повозку с ящиками боеприпасов, на которых сидели командир батареи и несколько бойцов, и разорвал их и лошадей где-то в районе Импилахти, в Приладожье…
Об этом мне рассказывала бабушка, в последний раз я слышал от нее, как финны убили моего отца, когда летом шестидесятого года мы со Светланой, моей одноклассницей по 22‑й школе, дочерью артистов Финского театра Тойво Ланкинена и Дарьи Карповой, решили пожениться. Бабушка ничего против моих будущих родственников не имела, она давно знала их, особенно дружившую с моим отцом Дарью Кузьминичну, но никак не могла одобрить решение внука – у него отца убили финны, а он женится на финке… У внука не хватило ума спросить у бабушки: «С чего ты взяла, что осколок был финский?..» Так она и умерла в январе семьдесят первого, убежденная, что моего отца убили финны. Через двадцать два года после ее смерти я приехал осенью девяносто третьего на чемпионат Европы по волейболу в Турку и тогдашний тренер сборной Суоми Вячеслав Платонов познакомил меня с президентом Финляндии Мауно Койвисто, участником Второй мировой войны (оба они играли за команду ветеранов Райсио, города-спутника Турку). Мы подарили президенту нашу с Платоновым книгу «Суд над победителями», я рассказал ему историю своей женитьбы, доктор Койвисто, уточнив место действия, спросил: «А почему ваша бабушка решила, что осколок был финский? Он ведь мог прилететь и с советской стороны. Там страшная неразбериха была… Да и разве дело в том, чей это осколок? Война – это всегда ужас и смерть».
У моего отца, не вернувшегося с советско-финской войны, захватнической для сталинской империи и отечественной для Финляндии, было, как и у отца Робина Коллингвуда, множество книг – несколько тысяч томов. Я должен был их унаследовать, проглотить, я носился по квартире, по двору, как шаровая молния, как говорила Дарья Кузьминична, наблюдавшая меня, трехлетнего, в действии, и был единственный способ остановить, утихомирить молнию – положить на ее пути толстую книгу с картинками, чаще всего Брема или атласы птиц, животных, растений, рассказы путешественников… Оставаясь один на один с книгой, я замирал, погружался в нирвану; это блаженство, сопровождающее меня всю жизнь, поначалу, пока я не умел читать, было беспредметным, как пишет в «Автобиографии» Р. Д. Коллингвуд, «было только бесформенное и безадресное чувство интеллектуального беспокойства, как если бы я боролся с туманом».
Неопределенную смятенность духа, чувство обеспокоенности, не поддающейся точному определению, «приступы» абстрактного мышления мальчики разных стран и народов, жившие в разные времена, прикрывали от глаз родителей и нормальных сверст ников, не боровшихся с туманом, какой-нибудь физической деятельностью; к примеру, английские или русские мальчики, воспитывавшиеся по английской методе, разнообразными спортивными умениями – спортсменом был с детских лет Володя Набоков – боксер, футболист, фехтовальщик, шахматист, длинноногий неукротимый покоритель лесов, гор и долин с сачком для ловли бабочек в руках, да и Робин был ловким мальчиком: катался на велосипеде, греб, хорошо знал парусное дело. Я тоже был шустрым, подвижным, хорошо координированным, играл в футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, метал диск, занимался боксом…
Отцовские книги мне прочесть не удалось. Между книгами и мной опять встала война. В тридцать девятом и сороковом – с финнами, в сорок первом – с немцами. Когда мы собрались в эвакуацию, бабушка уложила все книги отцовской библиотеки в ящики, наняла мужиков, которые вырыли в нашем дворе на улице Калинина, сразу за кинотеатром «Сампо», большую яму, и спрятала ящики. Подальше положишь – поближе возьмешь… Как бы не так. Из всей многотысячной отцовской библиотеки уцелели только «Агрохимия» Прянишникова и «Война и мир» Толстого: они оставались в шкафах в квартире, и когда мы вернулись в июле сорок четвертого в освобожденный Петрозаводск, они преспокойно стояли на пустых полках. Выкопанная во дворе яма тоже была пуста.
Бабушка сильно расстроилась, а я взял с полки «Агрохимию», узнал, что навозохранилища называют «гнойниками», о чем тут же поведал маме, как будто она этого не знала, и сказал, что Льва Толстого освою к концу первого класса. Мама засмеялась, погладила меня по колючей, стриженной бабушкой под ноль голове (чтобы с вшами было легче бороться): «Освоишь когда-нибудь…» Через два года она подарила мне на день рождения Гоголя в одном томе, послевоенное гослитовское издание, потом первое послевоенное собрание сочинений Пушкина в шести томах, у букинистов купила Шекспира, изданного в Петербурге в начале века под редакцией Венгерова («у папы, – сказала, – были такие тома, подрастешь, прочтешь») и «Пролегомены» Иммануила Канта, где определяются границы чистого разума и разрешается вопрос о возможности метафизики в смысле науки – кантовские «Пролегомены» выпустило Государственное социально-экономическое издательство в 1934‑м, к печати они были подписаны 27 апреля, за семь месяцев до убийства Кирова.
Марсель Пруст называл дни в детстве, проведенные с любимой книгой, прожитыми с такой полнотой, когда мы словно бы и не жили, когда все (игра, друг, пчела, луч солнца, обед) отвергалось нами как низменная помеха божественной усладе.
Ну, нами, в моем детстве все это, конечно, не отвергалось, особенно игра и обед, но более сладостной услады, чем чтение, и я в детстве не знал. Да и сейчас не знаю…
Впоследствии чтение привело меня к убеждению, что желание человека познать все, прежде всего самого себя, является самой сильной человеческой страстью – более всепоглощающей, чем страсть к игре, как считал Пушкин, чем вера, как полагал Кьеркегор.
Кант называл эту страсть вяжущей силой самопознания, а Мераб Мамардашвили, импровизируя, как джазовый музыкант, на темы Канта, развивая его мысль о вяжущей силе самопознания, говорил, что человек рождается дважды: первый раз – как биологическое существо, а второй – самостоятельно, в духе, в сознании. Это второе, истинное рождение требует от человека больших усилий, прежде всего усилия понимания. В своей лекции о свободе, прочитанной в Доме творчества кинематографистов в подмосковном Болшеве весной 1987 года (в Болшеве я не был и знаком с лекцией Мераба по публикации в «Независимой газете», но эти же мысли он развивал через год на встрече с ленинградскими учеными, литераторами, архитекторами, музыкантами в Доме ученых на Дворцовой набережной и в начале 1990 года, оказавшегося последним в его жизни, на фестивале «Послание к человеку» в ленинградском Доме кино – там я уже был и записал, насколько это возможно, импровизации выдающегося современного мыслителя на темы Канта, Декарта, Пруста, Мандельштама) Мамардашвили говорил, что нет «вечного» добра и оно всякий раз должно рождаться заново, что, совершив вчера что-то доброе, мы не можем встать на это как на ступеньку, ведущую в сторону добра, поскольку существует некий зазор «второго рождения» или творения в акте добра.
«Это как бы огонь бытия, который мерно (задавая меру) должен вспыхивать каждый раз заново… Язык философии парадоксален, он имеет отношение к тому, чего нельзя знать в принципе. А раз нельзя, следовательно, это язык не знания, а мудрости».
Самое важное, что я вынес из встреч с Мерабом Мамардашвили, из его книг, которые продолжают выходить третье десятилетие после его смерти в московском аэропорту 25 ноября 1990 года, где он ожидал рейс на Тбилиси, состоит в следующем:
«Свобода, с одной стороны, недоказуема, ее нельзя обосновать, доказать и т. д. А с другой стороны, и это главное, поскольку мы не можем обосновать, что такое свобода, постольку не можем сказать, и для чего она. Что с ней делать. Ведь она ничего не производит. По одной простой причине: потому что свобода производит только свободу, больше ничего. И то же самое можно сказать о мысли. Она производит только мысль. Не мысль о чем-то. А мысль, производящую мысль».
Мераб часто ссылался в своих последних выступлениях на Пруста, приводя, в частности, пример с околдовывающим запахом сырости, преследующим героя романа «В поисках утраченного времени». В этом запахе, оказывается, было скрыто от героя символическое указание на возможную для него форму любви, «которая все время сохраняла любящего как бы внутри материнского лона; он был как бы в коконе, как и его мысль, то есть в данном случае мысль самого автора, писавшего роман на «костылях» свободы».
А теперь, сделав отступление о «втором рождении», вернусь к моему первому рождению – вернее, сну о рождении в ночь на 19 октября 1992 года, когда я был внутри материнского лона и слышал, как бабушка выгоняет из избы пьяненькую местную акушерку, как уговаривает потерпеть Нинушку, мою маму, и проделывает какие-то манипуляции, чтобы развернуть меня и что-то все время сердито бормочет, и я понимаю, что это она на меня, еще не рожденного, сердится, потому что я иду ножками вперед, а надо – головой, я хочу помочь ей и маме, задыхаюсь от бессилия и одним рывком поднимаюсь на постели, замерзший, одеяло скатилось на пол, окно распахнуто, сильный ветер раскачивает деревья под окнами, но никакой метели нет и в помине, и только сильно болит голова – не от бабушкиных рук, а от того, что, вскочив, ударился об угол книжного шкафа в квартире на девятом этаже в Шувалове-Озерках…
Из-за ужасной метели, редкой для этих мест в октябре, невозможно было отвезти маму (после окончания Воронежского сельхозинститута она была распределена в Карелию и работала агрономом Прионежской МТС) в Петрозаводск, в роддом, и бабушка, тверская крестьянка, родившая трех детей летом на покосе и в поле, когда лен теребила, бесстрашно взялась помогать младшей дочери разрешиться от бремени, выгнав из избы пожилую повитуху, запаниковавшую, когда выяснилось, что плод идет ножками вперед, к тому же и акушерка, и бабушка думали, что будет двойня, но оказалось – один, но тяжелый, больше пяти килограммов, а сколько точно, неизвестно, потому как снежная круговерть прекратилась лишь через две недели, и тогда отец отвез жену в Петрозаводск; здесь первенца шуйского агронома взвесили и даже сообщили в газетах, какого крупного мальца она родила.
Отец, когда бабушка показала ему сына с дынеобразной головой, закричал: «Урод! Урод!», с горя выпил полбутылки водки (вообще-то он не пил) и был изгнан из избы, как и акушерка.
А бабушка, как и описано в моем стихе, не мешкая, взялась за формовочные работы и слепила из еще не затвердевшей дыни тыкву. Как только не дразнили меня в детстве за этот котел на плечах! И голованом, и лобаном, и сазаном: у астраханского сазана крупная башка. Я ревел от обиды и бросался на обидчиков из детсада при Астраханском икорно-балычном комбинате имени Микояна и бил их лбом в переносицу. Мой университетский друг Борис Моисеев по прозвищу Бубрих, талантливый поэт, лужский мещанин, как он себя аттестовал, чревовещатель, знавший сотни срамных частушек, специалист по самогону и кулачным боям называл этот прием «лобановским ударом».
Все мои взбрыки и закидоны бабушка объясняла тем, что я родился в метель. Родители спокойные, уравновешенные, воспитанные люди, недоумевала она, а сын у них шальной, сатана, а не ребенок. Может, и сатана, но однажды я подслушал, как мама и ее старшая сестра, тетя Шура, посмеиваясь, объясняли моей бабушке, что я своим норовом поперечным, реактивностью похож на Батаню, как я называл ее в младенчестве. Завожусь с полоборота, но отходчив, зла ни на кого не держу. Совсем, как бабушка.
Сон, где я переворачивался в материнском лоне, чтобы облегчить ее страдания, я видел всего один раз, а вот фрагмент бреда, как называл эти сны мой малолетний внук, где я сбиваюсь в метель с пути и засыпаю-замерзаю в снегу – возникал в моих сновидениях часто, особенно в детстве, когда молодая, красивая мама и ее подруга, тетя Маруся Кутькова, пудожский агроном, со слезой в голосе пели, как в степи глухой замерзал ямщик. Слушая про бедолагу ямщика, я плакал, накрыв голову подушкой, засыпал и во сне уже сам замерзал, но не в степи – где возьмешь степь в Карелии? – а на льду занесенной снегом реки Шуи. Долго боролся со сном, боялся, что засну и не проснусь.
Перестал бояться этого сравнительно недавно, посмотрев фильм Акиры Куросавы «Мада-да-ё» о взаимоотношениях старого учителя, профессора и писателя Утида, человека весьма почтенного возраста, которого ежегодно в его день рождения навещают ученики и, перед тем как выпить чашечку-другую подогретого саке, спрашивают, не собирается ли учитель отправиться в мир иной, а он неизменно отвечает: «Мада-да-ё» (в буквальном переводе – «Пока еще нет»), чем приводит учеников в неописуемый восторг, и они хохочут, довольные собой и своим профессором, не поддающимся бегу времени и не теряющим спасительного во всех испытаниях, ниспосланных судьбой, чувства юмора. Обремененные детьми, внуками, множеством важных дел, ученики профессора радуются, как дети малые, что он еще с ними, а когда он не сможет ответить: «Мада-да-ё», они придут попрощаться с ним и, наверное, будут рыдать, провожая сэнсея в последний путь…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.