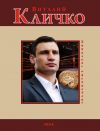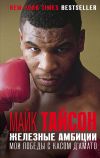Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 48 (всего у книги 53 страниц)
Холодное лето 1953‑го. Муммикка и Укки
Летом пятьдесят третьего мы поехали в Днепропетровск играть в баскетбол (вторая моя, после волейбола, игровая специализация), на юношеское первенство страны, и девочка из нашего класса, которую, еще не зная того, я любил уже целый год, положила мою руку себе на грудь, в поезде, мчащемся по степям Украины, когда мы лежали на боковых полках, прижавшись лбами к горячему стеклу, она – на верхней, а я – на нижней полке, и я просунул руку наверх, чтобы дотянуться до ее лица, потому что вдруг понял, что люблю ее…
Было лето пятьдесят третьего, вовсе не холодное в наших, европейских, широтах, как потом почти формульно отлилось в названии фильма, который снимался в Карелии, загримированной под Сибирь, фильма, в котором снялась и карельская актриса, мать той девочки из поезда, из нашего класса… У актрисы Дарьи Карповой в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего» была небольшая роль «тетки с козой», как она обозначена в титрах, к тому же при монтаже несколько эпизодов с нашей муммиккой (в переводе с финского бабушкой; муммиккой ее стали звать после рождения нашей дочери Тани) были выкинуты. На экране мечется перепуганная, заполошная, бестолковая пожилая женщина и тащит за собой упирающуюся, упрямую козу, как горькая судьба-судьбина тащила саму тетку, подобно миллионам ее товарок, и они мучились, не понимая, куда несет их «рок событий»…
Вряд ли зрители замечательного фильма о бандитской сущности власти, держащейся на беспредельном унижении человека, первом антисталинском фильме советского кинематографа, смогли прочитать все это в трагикомичном образе пожилой женщины, но мы-то, ее дочери Светлана и Инна, их подруги Женя Крохина, Лена Арутюнова, Надя Кипнис, Надежда Таршис, Ира Власова, близко знавшие Дарью Кузьминичну Карпову, народную артистку России и Карелии, почетного гражданина Петрозаводска, долгое время депутата Верховного Совета СССР, председателя Карельского отделения ВТО, человека, по советским меркам, благополучного и успешного, понимали, скорее догадывались, сколько своего, личного, спрятанного на дно колодца души, приоткрыла в этой эпизодической роли актриса строгая, сдержанная, с печатью глубокого страдания на лице. О силе ее страданий, действительно, можно было только догадываться: она никогда, даже с близкими людьми, не откровенничала. Пора зительный человек, органически не способная солгать правдоха, Дарья Кузьминична жила с постоянно включенным прожектором сознания, что свойственно философам, крупным писателям и мало кому из актеров…
После того как в январе 2003‑го мы похоронили муммикку, я увидел на ее прикроватной тумбочке смятую тетрадку. Почерк был муммикки, но очень неразборчивый. Оказалось, за три месяца до смерти, после инсульта, плохо видящая и слышащая, она писала воспоминания, вооружившись шариковой ручкой и лупой, приставленной к сильным очкам. Из этих записей мы, ее домашние, узнали много того, о чем Дарья Кузьминична никогда не рассказывала. Нам, во всяком случае. Может быть, Тойво Ивановичу Ланкинену, мужу, отцу Светланы, Паули, Инны, и рассказывала…
Кузьма Карпов, сегозерский карел, крестьянин, рыбак, ее отец, умер в начале 1925‑го, через год после вождя мирового пролетариата Ленина. Страшный голод, а в семье Карповых было шестеро детей. Троих старших, правда, уже отдали в люди, как-то пристроили. Оставались малолетки – десятилетняя Даша, семилетняя Таня и пятилетний Максим. Умирая, отец сказал: «Даша, ты старшая, отвечаешь за них. Возьмите котомки, идите по деревням, просите пропитание Христа ради, люди не дадут вам погибнуть».
Зима в Карелии стояла холодная с морозами за сорок градусов. И в эту лютую зиму случилось то, что потрясло Дашу и чему она не могла найти внятное объяснение в последующие годы. Когда она в первый раз протянула руку и хотела попросить хлебца Христа ради, произошло несмыкание связок. Будущая актриса потеряла то, что делает человека человеком – речь. Так и записала почти через восемьдесят лет в ученической тетради: «Я потеряла тогда дар речи».
Слава Богу, дети не пропали. Люди делились последним с сиротами. Но потерю речи Дарья Карпова не смогла забыть всю жизнь. Потом, через несколько дней или недель (это место в рукописи трудно разобрать), речь восстановилась, но «заикание осталось в минуты сильнейших душевных потрясений, в частности, я почти всегда заикаюсь на театральных премьерах… Пережитое унижение осталось со мной до конца моих дней».
В страшном тридцать седьмом, когда она родила Светлану и кормила ее грудью, мимо их окон (они жили на первом этаже дома на Зареке) два осенних месяца проводили арестованных актеров Финского театра. Однажды пришли за Тойво Ланкиненым, и она уже была готова пойти за мужем вместе с грудным ребенком. Но, как пишет Дарья Карпова в своих предсмертных воспоминаниях (буквы налезают на буквы, а строчки то ползут вверх, то срываются в пропасть – она спешит высказать все, что должна, с последней прямотой), «главный в кожаном пальто, пришедший в сопровождении двух солдат с винтовками, долго сверял принесенный им список с амбарной книгой прописанных в доме и, наконец, сказал: “Извините, вас в списке нету. Ошибочка вышла”». В этот момент Дарья Кузьминична выпустила дочь из рук и упала в обморок. «С этим страхом, – пишет она, – я и жила всю жизнь». И признается, что ее сохранили, спасли театр и дети. Когда погиб от дизентерии Алик, сын-первенец, она думала, что сойдет с ума. Но оставалась Светлана. И, значит, она должна была жить. И всегда в ее жизни оставался театр.
Пережитыми страданиями я и объясняю то, что в Дарье Карповой, нашей муммикке, всегда был включен прожектор сознания. Страдание, по Достоевскому, единственная причина сознания, а сострадание – главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. Эти мысли Федора Михайловича были близки гениальному артисту Иннокентию Смоктуновскому, который после публикации в «Авроре» моего пятистраничного опуса «Князь. Принц. Царь» написал автору: «Очень емкая статья у вас получилась. Но дальше-то что? Князь, принц, царь. Дальше – Бог? (Тогда многие говорили, что если у нас когда-нибудь будет создан фильм об Иисусе, то сыграть его должен Смоктуновский. – А. С.). А мне-то хочется человека сыграть, Алеша, человека! Никто не знает, сколько я страдал, чтобы сыграть Мышкина».
Никто не знает, какую цену заплатил артист, открывающий сердце, сколько он выстрадал, чтобы спасти наши души, как последний русский трагик Николай Симонов, как Иннокентий Смоктуновский, как карельская актриса Дарья Карпова, как финский актер Тойво Ланкинен… Только после того, как они, царившие на сценах питерских, московских, петрозаводских театров, прощаются с нами, мы узнаем из посмертных публикаций, какой ценой художник покупает право, возможность или благодать потрясать наши сердца…
Тойво Ланкинен, родившийся в июле 1907‑го на Карельском перешейке в деревне рядом с Валкеасаари (Белоостров) и умерший 8 декабря 1970‑го в Петрозаводске от неоперабельного рака легких (похоронен Тойво Иванович на том же кладбище в Песках, как и моя мама), – артист милостью Божией, редчайшего дарования. Человеческие страдания, выпавшие на долю сына репрессированного сталинским режимом народа, часть семьи которого осталась после «незнаменитой» зимней войны в Финляндии, а другая в Советском Союзе, артист Ланкинен преображал на театральных подмостках в радость: второго такого заразительного, веселого артиста на нашей отечественной сцене я не припомню, да и финны, когда Карельский, он же Финский, драматический театр стал ездить на гастроли в страну Суоми, были покорены искрометным талантом артиста, как эстонцы его диким капитаном; роль подруги дикого капитана в спектакле по пьесе Юхана Смуула исполняла Дарья Карпова. А что Ланкинен вы делывал в «Сельских сапожниках», в спектакле «На сплавной реке», где и хулиганил, и плясал, и пел?! Пел Тойво Иванович трогательно, проникновенно, виолончельно, особенно старую народную песню «Juokse, sinа humma», про лошадку, цокающую копытами по заснеженному насту, и сидящего в возке сборщика металлолома, как сегодня бы сказали… А каким уморительно смешным был он в «Четвертом позвонке» Матти Ларни, в «Бане» Маяковского, каким смешным и страшным в роли Маршала в «Белой болезни» Чапека, где в одной роли сыграл всех диктаторов двадцатого века – от Гитлера и Сталина до южноамериканских и африканских!.. Но Маршал был, скорее, исключением из правила, установленного для себя артистом Ланкиненом, видящим назначение художника в том, чтобы нести людям радость, видящим в радости смысл нашего существования.
Однажды мы с Тойво Ивановичем пошли по заснеженному Петрозаводску в кинотеатр «Сампо» и смотрели «Красную бороду», последнюю совместную работу Акиры Куросавы и Тосиро Мифунэ, а через несколько дней «Грека Зорбу» с Энтони Куинном, гениально сыгравшим в «Дороге» Феллини вместе с первой для меня актрисой мирового кинематографа Джульеттой Мазиной… Тойво Иванович, наш укки, дедушка по-фински, все пытался после «Зорбы» станцевать со мной сиртаки, мы чуть не грохнулись на никогда не убиравшийся в карельском стольном граде снег со льдом, а он все смеялся и напевал мелодию сиртаки, повторяя: «Какой артист этот Куинн! Какой бесподобный артист!..»
Лучше всех о таких людях и артистах, как Тойво Ланкинен, Энтони Куинн, Джульетта Мазина, сказал художник, никогда их не видевший, поскольку умер в тридцать шестом, когда они еще не были известны, – Гильберт Кийт Честертон, легкомысленный, жизнелюбивый мудрец Честертон: «Радость – куда более неуловимая материя, чем страдание. В радости – смысл нашего существования, мелочный и великий одновременно. Мы вдыхаем ее аромат с каждым вздохом, ощущаем ее аромат в каждой выпитой чашке чая. Литература радости – бесконечно более сложное, редкое и незаурядное явление, чем черно-белая литература страдания».
Родившийся в год смерти Честертона Александр Кушнер сказал в сущности о том же самом, что и английский классик: «Трагическое миросозерцанье / Тем плохо, что оно высокомерно». А в стихотворении о последнем уроке Гоголя написал: «Не надо выдумывать, жизнь фантастична!»
Всю жизнь слышу от своих друзей, от родных – от бабушки до дочери и внука, от случайных попутчиков в поезде, самолете, от коллег по работе: «Хватит выдумывать, сочинять, нести околесицу…» Что ж, в устных рассказах без этого не обойтись, хотя, как правило, я передаю действительно случившееся со мной или происходившие на моих глазах истории, но делаю это, будучи с малолетства очарованный Гоголем, в нарочито легкомысленной, хлестаковско-ноздревской манере, очевидно, сбивающей с толку внимающих такому рассказчику.
Когда пишу, ничего не выдумываю. Зачем? Жизнь фантастична! Сочинять, выдумывать для меня не составляет труда. Но заниматься этим неинтересно, может быть, потому, что это мне дается легко, а то, что нам дается легко, мы, как правило, не ценим. К тому же я работаю в жанре документальной прозы, люблю писать – и читать – дневники, мемуары, письма, рабочие тетради режиссеров, композиторов, биографические жизнеописания, что обязывает к точности. Понимаю, что пишущий прозу, даже документальную, не летописец, не хроникер, что не обойтись без известной доли вымысла, сочинительства, артистического перевоплощения в другого, своего героя, или в самого себя, но другого возраста, живущего в совсем другое время не только в биографии, но даже в автобиографии.
Правду и сочинительство принято противопоставлять друг другу. Между тем это вовсе не полярные понятия. «Когда пишешь роман-биографию, – сочиняешь, если позволено так выразиться, правду», – сказано в романе нашего современника Самуила Лурье «Литератор Писарев».
Продолжим сочинять правду об удивительной жизни Дарьи Кузьминичны Карповой, которую она сама начала описывать после семидесяти пяти, в 1989‑м. «Знаешь, – сказала она мне летом на даче в Косалме на берегу Укшозера, – до марта этого года (Д. К. родилась 18 марта 1914 года. – А. С.) я старости не чувствовала, а тут словно какой-то переключатель щелкнул в организме, и теперь, когда работаю, устаю и чувствую свой возраст…»
Как тут было не возразить… В свои пятьдесят я и с половиной ее забот по дому, даче, огороду, театру, телевидению, радио, театральному обществу, не справился бы. Что уж говорить о хлопотах, которые мы со Светланой и Таней доставляем муммикке ежегодными приездами в Косалму. А больше всех, как правило, весь июль и половину августа, торчал в муммиккином доме я, и в Косалме мне работалось лучше, чем в Репине и Комарове…
Дарья Кузьминична улыбнулась:
– Эти хлопоты мне в радость. Надеюсь, скоро привезете и Стасика (сын Тани, правнук Д. К., родился за два года до этого разговора и через три года начал обживать Косалму). Но я о другом. Хотела с тобой посоветоваться как с профессиональным журналистом. Я ведь прожила большую жизнь, много чего помню и о карповском роде, и о моих уральских корнях, о карельской театральной студии в Ленинграде, о Финском театре, где мы с Тойво играли с самого основания. На память не жалуюсь, но с годами она слабеет и жаль, если все, что было на моем веку, безвозвратно погибнет. Может, когда добьешь свою шахматную книгу, то в следующий приезд в Косалму возьмешь магнитофон и запишешь мои воспоминания?..
Магнитофон «Филлипс» муммикка привезла мне из гастролей театра по Финляндии, и он мне очень пригодился – и в работе с Вячеславом Платоновым над волейбольной книгой «Уравнение с шестью известными», и в беседах с академиком Д. С. Лихачевым, Даниилом Граниным, Андреем Битовым, Элемом и Германом Климовыми, Галиной Старовойтовой… Кроме рабочих записей «Филлипс» сохранил и бесценные голоса моих друзей и родных – самой муммикки, Светланы и Инны, их дочерей Тани и Даши, Станислава, ставшего главным персонажем семейной магнитной саги. Внук дал мне развернутое интервью перед началом учебы в «пятисотке» (школе номер 500 в городе Пушкине), после первого класса, одиннадцатого – в гимназии № 56, которую окончил с золотой медалью и дипломом «Мудрый бобер», наконец после получения диплома факультета менеджмента Санкт-Петербургского университета. Надеюсь, что историком нашего рода (родов) станет когда-нибудь Станислав Солтицкий, дипломированный маркетолог, не лишенный литературных способностей. В школьных тетрадях, еще до «пятисотки», он сочинял рассказы, повести, с семи лет вел дневник, названный им «Дневник мальчика Феди».
Стася-Федя в нежные детские годы не давал покоя дедушке вопросом: «Почему ты все время врешь?», что подвигло меня к сочинению колонки о вранье, опубликованной в газете «Невское время». Поскольку тема представляется мне вечнозеленой для райских кущ отечества и попутно кое-что проясняет в проблеме «сочинительства правды», я позволю себе перепечатать эту колонку в постскриптуме к главе об укки и муммикке.
Голос муммикки сохранился и в документальном фильме, снятом телевизионщиками Финляндии, и в записях Карельского радио и телевидения, и на аудиокассетах, хранящихся в моем архиве. А вот воспоминаний она мне так и не наговорила, хотя, когда мы с ослабевшей после болезни Дарьей Кузьминичной в конце девяностых гуляли в сильный мороз по заснеженной набережной Онежского озера в Петро заводске и заглянули на обратном пути в редакцию журнала «Север» – передохнуть, согреться, его главный редактор Олег Тихонов, угощая редко выходившую из дома гостью чаем с сушками и вареньем, сказал: «Наш уговор, Дарья Кузьминична, остается в силе: все, что напишете, отдаете нам, я готов печатать ваши воспоминания с продолжением в нескольких номерах – я слышал ваши рассказы и в Финском театре, когда там ставили пьесу по моей повести, и у вас в Косалме, и когда вы приходили в Ангозеро: это невероятно интересно, у вас цепкая писательская память, видишь все, что вы рассказываете…»
Муммикка покачала головой:
– Плохой из меня писатель, Олег Назарыч, мало того что хожу теперь с палочкой, да и с чьей-нибудь помощью, и слышу плохо, так еще и слепнуть стала, поздравительные открытки родным и подругам в Москву и Финляндию пишу с лупой…
– А память не подводит? – Олегу пришлось сильно напрягать голос, чтобы муммикка расслышала вопрос.
– Нет, целые картины всплывают из детства, юности, из первых лет жизни нашего театра, из страшных лет конца тридцатых и войны. Да и тяжело, Олег, это вспоминать, сердце болит, всю ночь ворочаешься без сна. Боюсь, подведу я вас, нарушу уговор…
Как ни уговаривал мой друг Олег Тихонов Дарью Кузьминичну, она стояла на своем…
Муммикка резко сдала в последние годы и ушла бы гораздо раньше, если бы не Светлана, выхаживавшая ее, беспомощную, исхудавшую, и в больнице и после больничной палаты: на брата, Паули, Пашку, как называли его собутыльники, надежды не было никакой, Инна с семьей жила за границей – сначала в Болгарии, потом в Финляндии, и лишь Светлана по первому тревожному сигналу (врачи говорили, что дни Д. К. сочтены) бросала работу, садилась в поезд, ехала к маме в родной Петрозаводск и вытаскивала ее с того света своими руками, от матери унаследованным карельским упрямством и любовью. Дарья Кузьминична говорила дочери тихим, слабым голосом: «Мне бы до девяноста дотянуть, а там и помирать не жалко…» Немного не дотянула: девяностолетний порог она должна была перешагнуть 18 марта 2004‑го, а скончалась 1 января 2003‑го.
В своем дневнике – толстой общей тетради с красной обложкой она записала: «Ночь с шестого на седьмое марта 1997 года. Страшная бессонница. Безысходная тоска. Мне хочется жить, жить! Хочется увидеть всех детей, внучек, правнука. Смерть Лео (двоюродный брат Светланы, Инны и Паули Лео Фомич Ланкинен, известный скульптор, театральный художник, живописец, умер 17 декабря 1996 года. – А. С.) была страшным ударом… Как хорошо, что Паули со мной. Он добрый. Не смогла быть на премьере из-за высокого кровяного давления… Тоска…»
Оказывается, муммикка все-таки писала свои воспоминания, хотя ее родные и не знали об этом. И никакая помощь литзаписчика ей не требовалась, что не уменьшает, конечно же, моей вины: не Олег Тихонов, а я должен был настаивать, нет, не уговаривать: железный человек, Дарья Карпова ни на какие уговоры бы не поддалась, а сесть рядом с ней на маленькой кухне в так называемом «доме специалистов» на углу проспекта Ленина и улицы Кирова, где мы пили кофе, чаевничали, ели круто посоленную жареную ряпушку и говорили обо всем на свете, решительно отодвинуть в сторону снедь, прекратить беспредметные разговоры о чем попало и, включив магнитофон, направить русло беседы в уже прожитую удивительную жизнь, чтобы читатель мог представить и пережить страшное и страстное время великих переломов страны, судеб ее людей, их душ. «Душа моя затосковала ночью» (Арсений Тарковский). Тоска. Безысходная тоска. И, как у Тарковского в том же «Ветре» сказано о женщине в платке, спадавшем с плеч над медленной водой, умершей, но казавшейся поэту живой: «Слова горели, как под ветром свечи, / И гасли, словно ей легло на плечи / Всё горе всех времен».
Так она, так они, наши матери и отцы, жили, неся на своих плечах всё горе всех времен.
Чего стоит один монтажный стык судьбы актрисы Дарьи Карповой – конец восьмидесятых и конец сороковых.
В начале перестройки она снималась в первой отечественной антисталинской картине «Холодное лето пятьдесят третьего» у режиссера Александра Прошкина. Ее посмотрели за год шестьдесят четыре миллиона зрителей уже дышавшего на ладан Советского Союза, ни Прошкин, ни Валерий Приемыхов и Анатолий Папанов, исполнители главных ролей, не ожидали такого зрительского триумфа, а главное, такого общественного резонанса «Холодного лета». Лучше всех его объяснил Евгений Евтушенко, сказавший режиссеру: «Этой картиной в восемьдесят седьмом году вы впервые сказали, что в нашем отечестве могут быть только две власти – тоталитарная или бандитская. Весь наш выбор. К другому мы не готовы – ни к свободе, ни к демократии. Или воровать и убивать, или ходить колоннами строем»…
В декабре 1949‑го как депутат Верховного Совета СССР она ездила в Москву на семидесятилетие Сталина, где на грандиозном банкете в Георгиевском зале Кремля ее соседом по столу оказался другой депутат, автор «Тихого Дона» Михаил Шолохов.
Фантастическая память актрисы это праздничное столование по соседству с будущим нобелевским лауреатом, прославленным писателем и, как молва доносила, любимцем вождя, сохранила во всех деталях – жаль, у меня память не фантастическая, да и как передашь на бумаге, если ты не Александр Николаевич Островский, неповторимую интонацию рассказчика, не только смысл, но и звук его речи?..
Звук умолкнувшей речи передать не берусь, но содержание сказанного под сводами Грановитой палаты, за столом, заставленным закусками, холодными и горячими, салатами, овощами и фруктами, бутылками всех цветов и графинами, фу жерами, бокалами, рюмками, постараюсь по возможности передать точно.
Помнится – Дарье Кузьминичне, а не мне, я в Грановитой палате в Москве тогда не был, хотя с любопытством осматривал выставку подарков советских людей и народов всего мира нашему учителю и вождю к его семидесятилетию – что классик советской литературы был огорчен тем, что товарищ Сталин охладел к нему. Раньше, объяснял он провинциалке из бывшей подстоличной Сибири, как называли социалистическую Карелию, не забывая осушать стопки зелена вина и бокалы вин сталинской гарнитуры – «Хванчкары», «Твиши» и «Киндзмараули», Иосиф Виссарионович обязательно пригласил бы меня к себе за стол, а сейчас там другие сидят… Обида не мешала донскому казаку как галантному кавалеру, нередко бывавшему на подобных застольях, ориентировать соседку, как держаться за сказочно богатым столом (Михаил Александрович настоятельно советовал Даше из каждого подаваемого блюда, каким бы вкусным оно ни было, пробовать только один кусочек и отодвигать тарелку в сторону, ее тут же уберут и поставят новую с другим кушаньем – так вы все или почти все перепробуете – где и когда еще этакий случай выдастся?), сам почти ни к чему не притрагивался, следил только, чтобы обслуга не обносила его чарку, а когда она мешкала, наливал себе и говорил то соседке, то внимательно следившим за гостями крепким мужчинам в темных цивильных костюмах, с военной выправкой, что хочет пойти к главному столу и выпить с юбиляром за его здоровье. Несмотря на увещевания соседки из Карелии и настойчивые, хотя и вежливые предостережения мужчин с военной выправкой не делать этого ни в коем случае, писатель, улучив момент, вырвался из-под присмотра и двинулся заметно нетвердой походкой между двух рядов столов с гостями к главному, сталинскому. Естественно, он был перехвачен охраной на пути к цели, но Сталин, коему, очевидно, доложили, что к нему рвется Шолохов, подал знак начальнику своей охраны пропустить классика, и Михаил Александрович чокнулся с поднявшимся за столом вождем. Но посажен за стол рядом со Сталиным, как раньше, не был и посему, вернувшись обратно, пребывал в прескверном настроении и спрашивал строгую миловидную карелочку: «Даша, почему Он со мной так?..» – как будто актриса Финского театра Карелии могла знать, почему Хозяин так обошелся с любимым, как учили нас в школе, писателем советского народа…
На даче в Косалме, на берегу Укшозера, я писал книжки, а Д. К. после окончания театрального сезона, в перерывах между съемками в «Холодном лете пятьдесят третьего», записями на Карельском радио и телевидении, окучивала картошку, боролась с кротами на огороде, кашеварила, ходила в лес по грибы (рыба – от ловли до приготовления ухи – была по моей части)… Когда мы садились за стол похлебать ушицы, что сопровождалось ее неизменным присловьем: «Продай последние порты, а стаканчик под уху выпей», я, вдохновленный хорошим солнечным днем, ухой в сопровождении муммиккиных рассказов, тоже начинал травить байки… Муммикка улыбалась, иногда посмеивалась, потом брала в руки тяпку или корзинку и, уходя из домика, говорила: «И как только ты не устаешь сочинять все эти истории…»
Я никогда не называл муммикку тещей. Она знала меня давным давно, еще за несколько месяцев до моего рождения, поскольку дружила с моими отцом и матерью.
Себя я помню более-менее отчетливо с трех лет, помню, когда мной впервые овладело «острое чувство боятельности», как через полвека скажет мой маленький внук. Он боялся вскарабкаться по канату в спортгородке турбазы «Косалма» и повиснуть вниз головой, а я больше всего боялся во дворе на Калинина громадного петуха с красным гребнем, топтавшего в загородке у нашего дома кур и больно клевавшего человечью мелюзгу. И там, и там – и в Косалме, в семнадцати километрах от места моего рождения на берегу Шуи, и на довоенной окраине Петрозаводска – с нами была Дарья Кузьминична, наделенная редкой памятью и даром передавать запечатленное, оживлять минувшее. На своем восьмидесятилетии она припомнила, как в первый раз увидела будущего зятя летом тридцать девятого, когда родители позвали ее посмотреть на моего младшего брата, родившегося зимой. Дарья Кузьминична пришла раньше задержавшихся на работе отца и матери, и когда бабушка открыла ей дверь, на лестницу, как она сказала, вылетела шаровая молния, громогласная в отличие от молнии. Придя в себя от изумления, она спросила: «Татьяна Прохоровна, кто это?» – «Мой старший внучок Алексей».
Младший, Миша, лежал спеленутый в кроватке. Младшему было месяца четыре, старшему осенью должно было исполниться три года. Муммикка посочувствовала родителям и бабушке шаровой молнии, носившейся по лестнице, залетавшей на кухню, выбившей из рук бабушки противень с только что испеченным лакомством, потащившей «хворост» во двор ребятишкам и снова влетевшей на кухню – попить компоту… Тут Алексей, бесстрастно повествовала муммикка, был наконец изловлен отцом, зажавшим его коленями: «Угомонись, у нас же гостья, а ты чумазый, потный, на кого только ты похож?!» Нина Ивановна лишь улыбалась, кормя младшего, Мишу, чмокавшего и посапывавшего. «И не скажешь, что родные братья, – заметил их отец за столом, когда пили грузинское вино за недавно родившегося Мишу».
Мой старый друг фотокорреспондент ТАСС Семен Майстерман, как и муммикка, почетный гражданин Петрозаводска, снимавший юбиляршу у нее дома в окружении ближайших друзей и родственников, поинтересовался, сильно ли переменился Алексей за прошедшие шестьдесят лет, и услышал: «Нисколько не изменился».
Когда все отсмеялись, Дарья Кузьминична не преминула заметить: «Мы с Алексеем всегда дружно жили и никогда не ссорились».
Что верно, то верно: никогда.
Из трех сохранившихся тетрадей, заполненных рукой муммикки, красная – самая большая и обстоятельная. Не пойди Даша в артистки, она могла бы стать, как ее друг Паша Громов, историком театра или просто ученым историком. Начав вести летопись своего рода, рассматривая жизнь людей как процесс, длящийся во времени, она неизбежно, может быть, и не отдавая в этом отчета, вступила в сложные взаимоотношения человека пишущего с текучим временем и с тем, что время делает с человеком. Один из главных итогов жизни: «Все прожитое, испытанное, увиденное, прочитанное остается в тебе и служит материалом в творчестве. Но большую, если не главную, роль играет интуиция. Пожалуй, в актерском творчестве интуиция – главное».
Записи итоговые, о результативном взаимодействии человека с временем – в конце большой красной тетради, а на первой ее странице – имена деда Макко (Макара) и бабушки Василисы Мироновны из крестьянской семьи с корнями от рудознатцев, попавших с Урала в Карелию, в места горных разработок, о чем поведала Дарья Кузьминична школьной подруге Светланы Жене Крохиной, журналистке «Курьера Карелии», глубоко чувствующей поэзию, боготворящей Льва Толстого и Андрея Платонова, а та и по долгу службы, и по душевной потребности (все подруги и друзья Светланы и Инны нежно относились к муммикке) в дни празднования в республике в октябре 2002 года семидесятилетия Национального театра Карелии напечатала в газете проникновенный очерк об истоках таланта актрисы «Почва и судьба». И начала она с Василисы Мироновны, окончившей всего три класса церковно-приходской школы, но знавшей про чудо творную силу слова, начинавшей свои сказы внукам: «Года, унесенные ветром, следы, размытые дождем». Маленькая Даша на всю жизнь запомнила стихи, которые читала родная женщина со сказочным именем:
Молись, дитя, тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слез твоих считает
И отвечать тебе готов.
Ветер уносит года, дождь размывает следы…
Дело к концу подходит: впадая в детство
Или же в устье, как ни скажи, во что ни впади –
Всё стирается, растекаются все свидетельства,
А конец абсурден не более чем прошлое впереди.
И далее читаем у нашего современника, поэта Олега Чухонцева:
Что ж, последний парад наступает?.. ну не последний
И не парад, а ответный скорее срок,
И пятиклассник семидесятипятилетний
Прячет сухарь недоеденный, слыша звонок…
Ответный срок. Последний парад. Последний звонок. Конец, абсурден или не абсурден, означает прекращение жизни, смерть. Другой наш современник, кинорежиссер Александр Сокуров, работая над фильмом «Dolce», завершавшим его японскую трилогию, записал в дневнике: «Одни живут, будучи мертвыми. Другие, умерев, живут».
Муммикка и укки относятся к другим – они живут и сейчас, когда их забрала к себе смерть.
Да, конечно, всё вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы, как два века назад писал великий пиит Гавриил Державин, наш с Дарьей Кузьминичной почти что земляк, олонецкий губернатор (Парк пионеров, граничивший с нашим домом на Герцена, теперь называется в столице Карелии Губернаторским садом). Но с бесспорным вроде бы утверждением Гавриила Романовича можно и поспорить. За двадцать веков до Державина древнегреческий философ Эпикур взглянул на «абсурдный конец» под другим углом зрения: «Смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют».
Мы смотрели с женой завершающую часть японской трилогии Сокурова, снятой несколько лет назад и наконец-то показанной отечественным телевидением на канале «Культура» 25 мая 2013 года в программе Владимира Хотиненко «Смотрим… Обсуждаем». Он бесконечно печальный и грустный, этот Сашин фильм (в начале восьмидесятых мы работали с Сокуровым на Ленинградской студии документальных фильмов и однажды, возвращаясь с какого-то кинофестиваля, проговорили с ним в железнодорожном экспрессе «Рига– Ленинград» десять часов о книгах, вспомнили и Акутагаву Рюноске, которого оба любили – на его родине мы тогда еще не бывали, о смерти и любви, о радости и несчастии, о грехе и покаянии, о потоке времени, который японские писатели и поэты всех поколений сравнивают с движением реки).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.