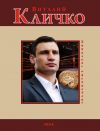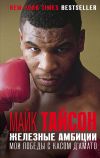Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 50 (всего у книги 53 страниц)
Да, с Шуркой, Александром Гердом, мы были друзьями прежде, чем впервые встретились летом сорок четвертого на развалинах Петрозаводского университета. И с другим Александром, Сашей Шарымовым, мы были друзьями прежде, чем встретились осенью пятьдесят четвертого в студенческой аудитории филфака Ленинградского университета, прежде, чем в один прекрасный день Саша зашел в комнатенку студенческого общежития во дворе здания Двенадцати коллегий (в моем пенале еле помещались три кровати, а Шарымов жил еще с тридцатью универсантами в зале дома, где в ноябре 1880 года родился Александр Блок, и густым, чарующим голосом спросил: «Нет ли у тебя заварки и чего-нибудь пожевать?..»)
Дружба проживается между двумя по-разному.
С Шарымовым мы не расставались с сентября 1954‑го по март 2003‑го: он умер рано утром 17 марта в Покровской больнице на Васильевском острове от третьего обширного инфаркта; ослепший, страдавший от диабета, до последних месяцев жизни работавший над историей и предысторией Санкт-Петербурга, не перестававший писать стихи, одно из последних стихотворений приветствовало будущее рождение внука Никиты, родившегося у его дочери Кати в Нью-Йорке. Не расставались, даже когда жили в разных краях и городах (а на что телефон?), он после окончания университета в 1959‑м на Камчатке, я в Карелии, куда и он вскоре перебрался, я – в Петрозаводске, он в Ленинграде, работал в «Ленинградской правде», на радио («Нет ни Кавказов и ни пошлых Крымов, – писал ему в открытке из Пушкинских гор Михаил Дудин, – един во многих измереньях мир, когда Лександр Матвеевич Шарымов врывается в заполненный эфир»), в журнале «Нева», в новом молодежном журнале «Аврора», куда летом 1971‑го был приглашен и я. Люда Региня, «публицистка невиданной силы» (А. Шарымов), с которой, как и с Людой Будашевской, мы делали журнал не один год, в очерке об Александре Матвеевиче в газете «Петербургский Союз журналистов» заметила по этому поводу: «Первый друг и сокурсник Шарымова Леша Самойлов пришел в “Аврору” прямо с поезда Петрозаводск – Ленинград и вскоре стал заведовать отделом публицистики. Саша Шарымов полагал, что только на дружбе могут быть выстроены по-настоящему плодотворные отношения в творческом коллективе».
Сказано, может быть, с перебором по публицистической части, но по сути верно. Я действительно пришел с поезда Петрозаводск – Ленинград в редакцию журнала «Аврора» на Таврическую улицу, 37, где бездомных основоположников «Авроры» во главе с Ниной Сергеевной Косаревой, новичком в редакторском деле, во всем полагавшейся на своего ответственного секретаря Александра Шарымова, друга Леши Лифшица (Льва Лосева), Жени Рейна, познакомившего Сашу с Иосифом Бродским, приютила дружеская редакция детского журнала «Костер». Правда, предварительно я заскочил на Суворовский, где жили Саша и Наташа Шарымовы, позавтракал у них и с сумкой, где лежала рукопись предназначавшегося для «Авроры» очерка о десятом чемпионе мира по шахматам Борисе Спасском, нашем сокурснике и одногруппнике по журналистскому отделению филфака ЛГУ, ведомый Шарымовым, отправился на Таврическую. Первый номер, подписанный к печати 29 июля 1969 года, был уже сделан, и мою «Визитную карточку чемпиона» поставили во второй номер.
На все журналистские практики мы с Сашей ездили вместе. После третьего курса – в Барнаул, в «Алтайскую правду»; зимой на четвертом курсе, когда всем надо было повариться в щелоках «районки», – в «Олонецкую правду»; после четвертого – в Астрахань, в газету «Волга». Я, сын агрономов, марксист-аграрник, как называл меня Федор Алексеевич Трофимов, главный редактор карельской республиканской газеты «Ленинская правда», принимая на работу в качестве литературного сотрудника отдела сельского хозяйства, мотался по алтайским и астраханским степям, воспевая хлеборобов и животноводов Алтая, в поте лица стремящихся выполнить лозунг, провозглашенный Никитой Сергеевичем Хрущевым: «Догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по производству сельскохозяйственной продукции на душу населения», наслаждался на бахчах невероятной сладости арбузами (лучшие росли на соленых баскунчакских землях), помидорами моей родной Астраханщины (мне никогда не забыть, кто и где спас нас с бабушкой и семью маминого сослуживца, тоже агронома Дмитрия Ивановича Лукашева от смерти в войну), писал о бахчеводах и овощеводах зарисовки, репортажи, корреспонденции, а серьезную статью «РТС и колхозы» мысленно посвятил своей маме, начинавшей агрономом Прионежской МТС – машинно-тракторные станции в хрущевские времена были переименованы в ремонтно-технические станции. Шарымов, корреспондент отдела культуры и на Алтае, и в Астрахани, поразил редакционное начальство «Волги», состоявшее из выпускников МГУ и снисходительно относящееся к студиозусам из Питера, когда после нескольких часов, проведенных у известного астраханского строителя, написал о нем так, словно знал его всю жизнь.
Особенно поразило и главреда, и самого героя, пришедшего в редакцию после публикации с бутылкой и осетровым балыком, начало очерка, где руки этого громадного, обожженного яростным астраханским солнцем мужика сравнивались с корой старого дуба, помнившего еще Петра Первого. Астрахань тогда жила предстоящим 400-летним юбилеем, и «Волга» регулярно печатала материалы местных историков, правильные и скучные. Им не хватало поэзии и жизни, как не хватало жизни чистой дистиллированной воде, если вспомнить Леонида Мартынова… Что повлияло на решение начальства перевести студента-практиканта ЛГУ из отдела промышленности в отдел культуры, отвечающий за юбилейные полосы, не берусь судить – то ли кора дуба, помнившего еще Петра, то ли мой рассказ, что Саша – волгарь, сын артиста Матвея Филипповича Шарымова, паренька из симбирского села Прислониха, откуда вышел известный русский художник Аркадий Пластов… Как бы то ни было, но моему другу доверили вести юбилейные полосы, для чего отправили его в местный архив. Щуку, а с учетом специфики низовьев Волги, севрюгу бросили в реку: нашего поэта хлебом с черной икрой не корми (чем усердно занимались мои тетя Шура и дядя Миша, в доме которых на Красной набережной мы жили), а дай погрузиться в документы, сохранившиеся доказательства быстротекущей жизни, чем он начал усердно и с большим успехом заниматься в Астрахани, продолжил затем в Ленинграде, работая над дипломом о Ленине-журналисте, в Петрозаводске, готовя спектакль для телевидения по повести Константина Паустовского «Судьба Шарля Лонсевиля», и, наконец, на финишной прямой своей жизни, просиживая дни напролет в архивах и библиотеках, полемизируя с устоявшимися в науке взглядами на предысторию Санкт-Петербурга и начальные годы его становления. Он ходил с белой тростью, называя себя «слепой Пью», дома печатал на компьютере, проверяя напечатанное, приставив к глазам сильную лупу, которую в последние годы, стремительно теряя зрение, брал в архивы и библиотеки. В этом он походил на муммикку, писавшую свои предсмертные воспоминания с карандашом в правой руке и лупой в левой.
Дарья Кузьминична очень любила Сашу, он гостил в ее домике на Укшозере, рядом с турбазой «Косалма», но боялась, чтобы он не заснул с зажженной сигаретой… Его любили все мои друзья и родные – и мой школьный товарищ Миша Епифанов, и Семен Майстерман, и Олег Тихонов, и Женя Крохина, в посмертном слове о Шарымове в «Курьере Карелии» отдавшая должное его поэтическому дару и высокому строю души, и Коля Крыщук, писатель, эссеист, с которым мы сблизились в Питере, в авроровскую полосу моей жизни, как и с Сашей Житинским, выпустившим в издательстве «Геликон плюс» книгу стихов и комментариев к ним Александра Шарымова – своего рода лирический дневник эпохи, и моя московская сестра Наташа, и бабушка Татьяна Прохоровна, и дочь Таня, с пяти лет и по сей день ближайшая подруга Кати Шарымовой, и жена Светлана… 23 июля 1960 года Саша вместе с Валей Стародубцевой, режиссером Петрозаводского телевидения, был свидетелем при нашем бракосочетании в загсе на улице Энгельса неподалеку от гостиницы «Северная» и того дома на Герцена, где мы жили, вернувшись из эвакуации, и где Дарья Кузьминична, приехав из Олонца, где находился Финский театр, познакомила свою восьмилетнюю дочь и девятилетнего сына Нины Ивановны Малютиной, которые, по ее словам, совершенно не заинтересовались друг другом…
Естественно, и на свадьбе Саша Шарымов был, как и другие мои друзья по Ленинградскому университету – Борис Грищенко, Борис Моисеев, Александр Герд, Аля Севастьянова (впрочем, тогда она еще не встретила Виталия Севастьянова, будущего космонавта, и носила фамилию отца – Бутусова)…
Свадьба в доме специалистов, как называли четырехэтажный дом на углу проспекта Ленина и улицы Кирова, где жили родители Светланы, гуляла, пела и плясала три августовских дня. Гуляли, кричали «Горько!», пели и пили за здоровье новобрачных шампанское, вина, водки и любимый Тойво Ивановичем армянский коньяк (Валя Стародубцева преподнесла нам дюжину высоких хрустальных рюмок с выгравированным стихотворным пожеланием, чтоб наши дни были легки и складывались в годы, чтоб рюмки знали только коньяки и никогда бы воды!). Гости занимали столы в двух комнатах, в третьей с выходом на балкон отдыхали – курили, приходили от танцев в себя на балконе, к железным решеткам которого предусмотрительно привязал свои ноги, чтобы не упасть с четвертого этажа, Бубрих, в миру Боря Моисеев – чревовещатель и поэт, автор поэмы «Остров Голодай» с запомнившимся всему курсу началом: «Друзья мои, святые негодяи, / Какая нонче в сердце молодьба! / Не все мы родились на Голодае, / Но Голодай нам общая судьба».
Боря, он же Бубрих (еще на первом курсе прирожденный лицедей, игравший Ваню Солнцева в катаевском «Сыне полка» в школьном драмкружке города Луги, где его мама была путевой обходчицей, а отец пропал без вести в Отечественную войну, Боря церемонно поздоровался в коридоре филфака со столпом финноугроведения Дмитрием Владимировичем Бубрихом, тот протянул незнакомому студенту руку и долго тряс ее, после чего по факультету прошел слух, что Борька – внебрачный сын Бубриха), был человек затейливый, артистичный, многообразно талантливый, знавший сотни частушек, преимущественно «с картинками», и распевавший их без перерыва часов пять на третий день свадебного гулянья, приведя в восторг друга Тойво Ланкинена, народного писателя Карелии Николая Яккола, жившего в том же доме специалистов. Помимо всех прочих угодий («пьян, да умен, два угодья в нем»), наш Бубрих отличался редкой выносливостью – как в потреблении самогона, который он привозил в общежития с исторической родины, так и на лыжне. Кроме того, был силен физически: на первом курсе, когда всех студентов отправляли убирать картошку, нас с ним освободили от этого муторного занятия под дождем и определили грузчиками: в Питер из Приозерского района мы везли на совхозной машине на мясокомбинат полный кузов свиней, а из города – тяжеленные ящики со стеклом… Никогда не занимаясь спортом ни в каких специализированных школах, Бубрих прекрасно бегал на лыжах и легко управлялся с разными типами лодок. В студенческой секции «лыжи-гребля», куда записались после возвращения с картошки первокурсники, не занимавшиеся спортом полупрофессионально, не входившие ни в какие сборные, как шахматист Борис Спасский, самбист Виталий Вильчинский, мы с волейболистом Александром Анейчиком, лидером был Моисеев, это признавали и другие лыжники-гребцы Грищенко, Шарымов и Герд.
Бубрих, он же Беба (почему Беба, никому не ведомо), он же Борис Васильевич Моисеев, раньше всех, еще со студенческой скамьи, начавший публиковаться в популярной тогда молодежной газете «Смена», мог бы претендовать на звание самого большого оригинала курса, если бы не его товарищ по спортивной секции Шурка Герд.
Бубрих, чревовещатель, острослов, поэт, артист и т. п., все же безусловно принадлежал к нашей поколенческой когорте, в то время как «профессура», проф, мой единственный друг и по школе и по университету, был белой вороной среди моих однокашников и однокурсников.
Судите сами. Приехал к другу на свадьбу в ковбойке, спортивных штанах, кедах, с огромным рюкзаком, в котором были резиновые сапоги, спальный мешок, свитер, вилка, ложка, кружка, сахар, конфеты, сыр и огромное количество библиотечных карточек, и пока гости собирались и рассаживались за накрытыми столами, устроился в ванной комнате на табуретке, неодобрительно окинув взглядом бутылки в заполненной холодной водой ванной, достал из необъятного рюкзака карточки и начал их обрабатывать – читал, делал какие-то пометки, что-то вписывал мелкими буковками, мешая Светланиной маме и помогавшей ей женщинам извлекать из ванной охлажденные бутылки… Дарья Кузьминична звала его в большую комнату к молодым и их друзьям, родители и другие родственники и сослуживцы постарше разместились в спальной, Шурка благодарил Дарью Кузьминичну, но к столу не вышел: «Они пьют, и мне там делать нечего, лучше поработаю, завтра рано утром я должен быть на пристани, студенты приедут из Ленинграда на поезде, и мы поедем на пароходе в Заонежье, в диалектологическую экспедицию». ДК носила в ванную Александру Сергеевичу салаты, клюквенный морс и пирожные: Шурка – редкий сластена, как и Шарымов, – их завтрак в филфаковском буфете состоял из винегрета, стакана чая и пяти шоколадных с орешками конфет «Кара-Кум», которые дома Герд прятал от мамы Оли в книжном шкафу своей комнаты на Свечном переулке. Готовясь к вступительным экзаменам в университет, я жил с другими абитуриентами в общежитии на Васильевском – вернее, ночевал, поскольку столовался и весь день занимался у Гердов на Свечном неподалеку от Кузнечного рынка и последней квартиры Достоевского. Здесь, на Свечном, я облазил однажды полки этого шкафа в поисках шоколада (очень хотелось есть, а Шурка с родителями, как назло, куда-то запропастились), ни «Кара-Кума», никаких конфет не нашел, зато на нижних, у самого пола, отделениях шкафа лежали конторские книги, толстые общие тетради, обычные ученические тетрадки, большие, как альбомы для рисования, блокноты, исписанные неповторимым Шуркиным почерком (моя бабушка говорила про таких писцов: «Пишут, как курица лапой»).
В отличие от своего друга, я, хоть каллиграф и аховый, пишу разборчиво, редакционные машинистки не жаловались на мои каракули. С Шуркиными они бы намаялись. Ему срочно пришлось бы осваивать машинопись, чтобы его путевые дневники (Герды объехали и обошли Кавказ, Среднюю Азию, побывали на Тянь-Шане и Памире, на Дальнем Востоке) стали известны граду и миру, как заметки пассажира корабля «Бигль», чтобы его повестями и рассказами зачитывались, как прозой академика Обручева, как нашими настольными с детства книгами русского путешественника Арсеньева, открывшего людям Запада природу Дальнего Востока с помощью местного следопыта, охотника Дерсу Узала, который был нам с Гердом ближе героев Фенимора Купера.
Теперь, полистав рукописи восемнадцатилетнего путешественника, я понял, почему он поступает на журналистику. Наверное, я меньше удивился, если бы в квартире на Свечном, неподалеку от Кузнечного переулка, нашли рукописи Федора Михайловича, черновики «Братьев Карамазовых» или первые варианты кочетовских «Журбиных», поскольку до своего назначения главредом московского «Октября», занявшего при новом шефе крайне правый фланг советских литературных «толстяков», Всеволод Анисимович Кочетов жил в Ленинграде, в квартире, после его отбытия в столицу предоставленной профессору-биологу С. В. Герду. Я судил по себе: терпеть не мог, да и сейчас не шибко люблю, писать. Рассказывать (баять, выдумывать, вещать) – другое дело, тут я в своей стихии, а писать, ставя буковку к буковке, слово к слову – это ужасно трудно, это каторга. Сладкая каторга она только для тех, у кого есть графоманское начало… Вот уж не думал, что в Шурке есть графоманская молекула, тяга к письменному столу, роднящая его с Бальзаком, Достоевским, Толстым, Диккенсом и другими великанами прозы…
При поступлении в университет Шурка срезался на географии. Путешественник, натуралист, сын натуралиста, не знал, как называется прибор, измеряющий влажность воздуха, поэтому получил четыре балла у женщины-географа и на отделение журналистики не попал: в пятьдесят четвертом семнадцати-восемнадцатилетним абитуриентам надо было сдать на «пятерку» все пять экзаменов (сочинение, русский язык и литература, иностранный, история, география), из юных принимали преимущественно медалистов, серебряных и золотых, а также взрослых – участников Великой Отечественной войны.
Шурке, невнимательно слушавшему накануне экзамена по географии своего Сережу, просвещавшего нас по третьему вопросу билетов, касавшегося физической географии (иначе знал бы про психрометр и его назначение), пришлось идти на отделение русского языка и литературы, куда дверь для споткнувшихся при входе на филфак, была открыта пошире…
Всегда вспоминаю в таких случаях мою бабушку с ее любимым присловием: «Нет худа без добра». Ну «выбил» бы мой закадычный дружок двадцать пять очков из двадцати пяти, поступил бы на журналистику, стал бы, скажем, обозревателем журнала «Наука и жизнь», спецкором «Вокруг света» или редактором в ленинградском отделении издательства «Наука»… И что? Обозревателей, корреспондентов, редакторов пруд пруди. А профессор Александр Сергеевич Герд, светило отечественной лингвистики и этнолингвистики, автор первого в стране фундаментального учебника по прикладному языкознанию для филологических факультетов университетов и педагогических институтов, пекущий разнообразные словари, как хорошая хозяйка пироги, – один на белом свете. Его знают изучающие русский язык в России и за рубежом (приехав однажды вечером в столицу Финляндии для чтения лекции в Хельсинки завтрашним утром, Шурка, не скажешь же профессор Герд, заночевал под деревьями парка в «спальнике», который у него на всякий пожарный случай всегда в рюкзаке). Его знают и студенты, и «охотники за словами», прочесывающие в экспедициях села и деревни Псковщины, Карелии, Вологодской, Архангельской, Мурманской областей. Лучше же всех А. С. Герда, точнее его труды, знают все, кто добывает рыбу в морях, озерах, реках бывшего Союза и в Мировом океане. Вместе с Георгием Линдбергом он создал «Словарь названий пресноводных рыб СССР» (Л.: «Наука», 1972), а через восемь лет издательство «Наука» при поддержке ЮНЕСКО выпустило в свет не имеющий аналогов «Словарь названий морских промысловых рыб» (авторы Г. У. Линдберг, А. С. Герд, Т. С. Расс), содержащий названия рыб на 96 (!) языках мира.
Эти словари – к уже названным надо прибавить тома «Псковского областного словаря с историческими данными», «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей» – стоят на моих книжных полках рядом с Далем, Ушаковым, Ожеговым, Кузнецовым… До них я могу при необходимости дотянуться, не вставая из-за письменного стола, а вот еще два фолианта в ярких попугаечных суперобложках, к коим мой старинный друг имеет определенное отношение, я был вынужден убрать подальше – от греха подальше (простите невольный каламбур): и жене не нравилось, и знакомые дамы к ним тянулись, и подрастающий внук очень интересовался девятнадцатью значениями, девятью подзначениями и девятью оттенками (цифры взяты произвольные) употребления наиболее распространенного трехбуквенного слова живого великорусского языка. Второй том был посвящен тоже весьма часто употребляемому слову из пяти букв. «Большому словарю мата» Алексея Плуцера-Сарно, который я давно уже ни от кого не прячу (внук вырос, гости к нам в Шувалово ездят редко), профессор Герд, можно сказать, «дал добро» на плавание в бурных водах современного русского языка, поскольку вместе с пятью лингвистами из Гарвардского, Колумбийского университетов США, из парижской Сорбонны выступил рецензентом словаря самой экспрессивной области нашего родного языка.
От самого Шурки, заводного, моторного, экспрессивного, я за нашу долгую дружбу не слышал ни одного обсценного слова, как в филологических кругах принято обозначать ненормативную лексику. Он вообще не ругается, никогда, даже в школьных уборных, не курил, долгие годы не пил ничего крепче индийского чая, сравнительно недавно стал позволять себе рюмочку сладкого вина по какому-нибудь торжественному случаю. И не потому, что старовер, а просто-напросто не любит это дело. Как писал на заре своего поэтического поприща поэт Глеб Горбовский, с которым мы вместе несли вахту на «Авроре»: «За границей не был и не тянет…» Вот и Шурку не тянуло и не тянет к чарке зелена вина, хотя за границу по долгу службы и по семейным обстоятельствам время от времени выбирается: то в Тарту, на семинары, симпозиумы в местный университет, то в Париж к своему троюродному брату, философу и издателю Никите Струве и регулярно в болгарский Пловдив, на родину Миры (как и муж, она филолог, и дочь их Лора, тоже остепененный филолог). Придя с мамой и папой на мое сорокалетие, а я очень хотел понравиться четырехлетней Бубе (домашнее имя дочери Гердов, подарившей им трех внуков), смешил ее, изображая подругу Тарзана Читу, и заслужил ее похвалу: «Дядя Леша – чистая маймуна!» (в переводе с болгарского – обезьяна). Мама Бубы что-то выговаривала дочке по-болгарски, а папа светился от счастья и, поздравляя меня с рождением, смеялся: «Мой недостойный, погрязший в грехах и невежестве друг, слышишь, устами младенца глаголет истина!»
Если вы и после этого скажете, что Александр Сергеевич не белая ворона, я отвечу, что вы совсем не разбираетесь ни в орнитологии, ни в психологии, ни в нашей российской действительности, которую тот же Горбовский в канун своего 80-летия приветствовал четверостишием: «Что за странная страна! / Не поймешь какая. / Выпил: власть была одна. / Закусил – другая».
Про страну, в которой Александр Сергеевич живет семьдесят семь лет, и про власть российскую он и так понимает, без пол-литры. В партиях – тут мы с ним едины – ни при каких режимах не состоял, на митинги сроду не ходил, наград от государства не ждал и не искал. Единственная правительственная награда, которой он был удостоен за заслуги в воспитании молодого поколения и большой вклад в науку в связи с 70-летием, долго искала его: юбиляр родился 23 июня, в разгар лета, когда весь ученый мир в отпусках, разъездах, экспедициях, так что награда ждала героя чуть ли не год, и только после звонка из высоких смольнинских сфер ректору СПбГУ профессору Людмиле Александровне Вербицкой профессор Герд сел у университета на троллейбус номер 7 – ни автомашин, ни телевизора в доме Гердов на Наличной улице нет – доехал до Смольного и получил заслуженную награду…
У нас дома, в тесном дружеском кругу мы называем А. С. Герда Мистификатором. Не случайно, должно быть, когда я начал писать о Герде, мне вспомнился Алексей Ремизов, Царь Обезьяньей Великой вольной Палаты, игрун, эксцентрик, любитель всевозможных розыгрышей и мистификаций. У нашего Шурки эксцентричность и мистификаторство в крови. Приводить многочисленные примеры его мистификаций – от отправленной на мое имя посылки наложенным платежом в Петрозаводск зимой пятьдесят девятого, когда я писал диплом, многокилограммового клавира оперы Жоржа Бизе «Кармен», нужного мне, как рыбе зонтик, до сравнительно недавних звонков противным старушечьим голосом: «Вы опять меня заливаете! Когда вы почините свой туалет? Я буду жаловаться в ЖЭК, в райисполком, я найду на вас управу!» – не буду: кому же охота выглядеть дураком, которого ничего не стоит облапошить… И чувство юмора у него, пропитавшегося Свифтом, Стерном, Чосером, Честертоном, Уайлдом, Шоу, явно не континентальное. Герд – фамилия английская. Его прапрадед Яков Герд, родившийся в один год с Пушкиным и проживший три четверти девятнадцатого столетия, происходил из семьи английских моряков, еще в восемнадцатом веке регулярно охотившихся на китов в Антарктиде и тогда же, в царствование Екатерины Великой, переехавших в Россию. Среди них были и китобои, и ученые, педагоги. Больше всего в советские времена писали об Александре Яковлевиче Герде, директоре гимназии в Петербурге, в которой училась Надежда Крупская. Куда меньше знали о его педагогических воззрениях, его системе трудового воспитания, использованной в работе с колонистами Антоном Семеновичем Макаренко…
С обоими моими единственными друзьями Александрами наша дружба проживалась по-разному. И проживается. Александр Сергеевич, благодарение Богу, жив, здоров. Правда, в прошлом году его впервые в жизни положили в больницу и даже прооперировали. К удивлению врачей академической больницы, у профессора Герда А. С., полных семидесяти шести лет, не было даже медицинской карты университетской поликлиники, он понятия не имел, какое у него обычно кровяное давление, потому что до семидесяти шести ничем не болел и, соответственно, к врачам не обращался.
С Сашей Шарымовым мы были друзьями прежде, чем впервые встретились, а как встретились, так практически полвека не расставались. С Шурой Гердом не расставались только в первые пять лет, когда постоянно виделись в школе и после нее, вместе ходили в загородные походы, собирали ягоды, грибы («загород» находился в первые послевоенные годы в районе нынешнего Петрозаводск маша), пекли на костре картошку, купались в Онежском озере в районе Песков, когда собирали марки, камни (Шурка по-братски делился со мной уральским малахитом, коллеги отца, геологи, привозили этот околдовавший меня минерал), когда вместе ходили в тюрьму, да-да, в местную тюрьму на нашей улице Герцена, в кинозале которой крутили трофейные фильмы, – там мы посмотрели и «Индийскую гробницу», и «Серенаду Солнечной долины», и «Сестру его дворецкого», с ним и с другими ребятами из первого «б», нет, уже из второго «б», закоптив стеклышки, смотрели полное солнечное затмение…
В Ленинграде, даже в общие университетские годы, были уже не так близки, У меня – своя дружеская компания, а у него… не могу сказать, своя, не знаю. И дома у Гердов я стал бывать реже, а уж потом, в петрозаводскую взрослую, семейную пору моей жизни и ленинградско-университетскую пору его житья-бытья, виделись редко, как, впрочем, и тогда, когда сорок лет назад снова стали жить на берегах Невы. Сказать, однако, что жизнь нас развела, как это бывает сплошь и рядом с друзьями детства, не могу. Внимательно слежу за его успехами, радуюсь им больше, чем своим, получаю от него труды, учебники, словари, информационное издание филфака «ЯЛИК», где А. С. Герд – главный редактор. Шурка боится, чтобы старый друг Лешка не закоснел в невежестве, в журналистском верхоглядстве и неизбежном спутнике этой профессии – дилетантизме; при редких встречах – он появляется у нас в Шувалове в разгар лета, когда Мира уезжает в Болгарию, со словами: «Это я! Картина “Не ждали”. Светочка, только ничего не надо готовить, я только что пообедал… От чая и малины не откажусь… А ты, друг астраханско-калмыцких степей, почему выступаешь против переброски вод Онежского озера в Волгу и Каспий? Хочешь, чтобы Каспийское море обмелело?!» (Содержание речей, обращенных непосредственно ко мне, год от году меняется, но видно, что он следит за сочинениями приятеля, кои я ему время от времени преподношу.) А чего стоят его открытки и письма с нашей исторической карелофинской родины, где он бывает чаще меня. Читать Шурку, после того как разберешь его клинопись, – одно удовольствие; английский, островной юмор предков отца смешан в них с гоголевским (мама-то украинского рода), – привел бы его образчики, но профессор категорически против…
Не уверен, что английская литература, давшая миру Шекспира, Диккенса, Честертона, вошла бы в мой душевный состав так же неотменимо, как русская, если бы я не встретил в детстве потомка китобоев и натуралистов волшебного острова.
Гилберт Кийт Честертон в автобиографическом «Золотом ключе» написал: «Моей настоящей родиной было детство». Так же могли бы сказать о себе и русские гении – Андрей Платонов, Борис Пастернак, награжденный, по словам Ахматовой, каким-то вечным детством.
Неужели только гениям дано сохранить этот дар жизни? Но гениев в человечестве ничтожная доля процента. А как быть остальным, не обладающим сверхспособностями, как сохранить в себе корпускулу вечности, заложенную в каждого человека от рождения, как сделать одаренными всех, кто появился на свет божий?..
Ответ дает Платонов: «Любовь – мера одаренности жизнью людей».
Любовью как мерой одаренности жизнью наделены все живущие, но в разной степени – от слабенькой до предельной. Способность к любви, может быть, единственная способность, позволяющая обыкновенному человеку сравняться с поцелованными Богом. Ее надо беречь в себе, холить, лелеять, пестовать и взращивать. Не мне судить, в какой степени я одарен этой способностью, но без любви, в безлюбой атмосфере мне жить тяжко: нечем дышать. Без игры, говорит один из толстовских героев, любовь киснет, как молоко в грозу. А без любви, по-моему, и жить не стоит, не имеет смысла. С близкими по мироощущению людьми – лично знакомыми мне и незнакомыми, великими и обыкновенными, знаменитыми и безвестными – меня объединяет мера одаренностью жизнью. Несколько лет назад, когда Николай Крыщук расспрашивал меня при включенном диктофоне (беседа предназначалась для созданной Симой Соловейчиком общероссийской газеты «Первое сентября», где и была впоследствии опубликована под заголовком «Человек в других людях» – это усеченная цитата из «Доктора Живаго» Бориса Пастернака: «Человек в других людях и есть душа человека…») про тех, кто повлиял на меня особенно сильно, я, начав вспоминать героев своих очерков и документальных повестей, с которыми у меня складывались неформальные отношения, вдруг понял, что в чем-то они очень похожи на меня. Даже если речь о людях гениального дарования. Для домашнего употребления вывел формулу: Смоктуновский – как я, Таль – как я, Мамардашвили – как я… За вычетом гениальности. Гениальность тут, в общем-то, ни при чем, нас делает близкими, притягивает друг к другу – любовь. Любовь как мера одаренности жизнью.
Тогда и невозможное – возможно. К невозможному летят наши души. Только любящий знает о невозможном. Только одаренный жизнью. А одарены жизнью все. И люди исключительные, и вроде бы обыкновенные, которых, как моих одноклассников и однокурсников, сближает разве что отнесенность к одному поколению, поколению шестидесятников.
Семнадцать лет назад товарищ студенческой поры Виктор Бузинов пригласил автора этих строк выступить на Петербургском радио в передаче, где по субботам исповедуются шестидесятники. Попробовал отбиться:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.