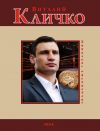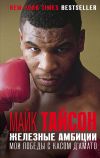Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 53 страниц)
«Папа был талантлив во всем, играл на пианино, хотя музыке специально не учился, читал наизусть стихи немецких и английских поэтов на языке оригинала, за несколько лет до смерти написал портрет своей жены, моей мамы».
Об этом дочь Ревы, Елена Константиновна Смолина, спортивный врач, рассказывала землякам своего отца из Глухова, приехавшим в Москву на турнир его памяти в микроавтобусе на пути из спортивного зала на Троекуровское кладбище, где Константин Кузьмич (он умер 1 сентября 1997 года) покоится под черным обелиском рядом с Валентиной Дмитриевной… Сама Елена Константиновна скончалась в ноябре 2010‑го и похоронена рядом со своими родителями…
В последние годы жизни полковник ВВС Рева часто попадал в госпиталь, очень скучал в больничных палатах по домашним, особенно правнукам Сереже (ему было девять лет, когда прадедушка умер) и трехлетней Кате, детям его внучки Жени, кандидата филологических наук. Катя (напомню, это было весной 2001‑го) говорила: «Деда Костя очень болел, у него ноги сильно болели, мы ему перевязки делали». А девятилетний Сережа, когда в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко умер Константин Кузьмич, сказал: «Хороший мужик был».
Хороший у Сережи был прадед. Замечательный, чудесный, на таких людях земля держится.
На родине Ревы турниры его памяти стали проводить на два года раньше, чем в Москве. В сорокатысячном Глухове есть спортклуб имени Ревы и команда ветеранов. В апреле этого года на исторической земле старинного украинского города Глухова проходил традиционный международный турнир в честь Ревы. Одну из российских команд – из подмосковных Люберец – привез в Глухов постоянный участник турнира, бывший игрок команды ЦСКА, зять Константина Кузьмича Сергей Борисович Адамов. А хлопоты по организации турнира и помощь глуховской команде ветеранов взял на себя местный предприниматель Владимир Николаевич Колтаков. В свое время на родину короля волейбола меня приглашал городской голова Глухова Николай Андреевич Деркач. Сейчас он вице-губернатор Сумской области.
«Вы правы, – писал Деркач, получив из Питера мою книгу о волейболе и очерк о Константине Реве, – такие люди, как наш великий земляк, даны нам от Бога, и человеческой памяти нельзя расслабляться и забывать их».
2012
Счастье в подарок
Огонь сосны с огнем души
в печи перемешайте.
Булат Окуджава
Там, внизу, на красном синтетическом покрытии Большой спортивной арены – Бубка, Льюис, Мозес, Джойнер…
Здесь, в ложе прессы, – Юрий Ваньят, Дмитрий Полонский, Григорий Чертов, Кирилл Набутов, Александр Чуркин, Рейма Руханен… Газета «Труд», студия «Центрнаучфильм», Ленинградское телевидение и Всесоюзное радио, «Комсомольская правда», Агентство Печати Новости (АПН). Есть еще Франс-Пресс, Синьхуа, Пренса Латина, «Таймс», Болгарское телевидение, «Млада фронта», «Вашингтон пост» – сотни журналистов из десятков стран мира приехали в Москву на первые Игры доброй воли.
Ваньят, ироничный, седой, всезнающий, объехавший чуть ли не все страны и континенты, где происходили какие-либо приметные спортивные события, первым в печати, еще во время войны, благословивший на великий путь Всеволода Боброва, – старейшина корпуса отечественных спортивных журналистов Юрий Ильич Ваньят бежит (не сходя с места) круг с Эдвином Мозесом, смакуя колдовской ритм синкоп несравненного барьериста, не проигравшего ни одного старта за десять лет, ни одного из восьмидесяти или ста, – спорящие обращаются за уточнением к Ваньяту, он просвещает коллег, успевая получить итоговые протоколы, занести очередную запись в блокнот и, между прочим, выяснить у коллег, специализирующихся на баскетболе и волейболе, какая из приехавших на Игры команд может преподнести сюрпризы…
Прямо перед нами сценарист Полонский и режиссер Чертов, снявшие несколько документальных лент о спорте и в их числе поэтичную и драматичную картину «Три… пять… семь», вместе с операторами наблюдают за великим таинством рождения но вого рекорда, европейского рекорда в прыжках в длину Роберта Эммияна, улетевшего на 8 метров 61 сантиметр.
После октября 1968‑го, после Мехико, у прыгающего народа есть рекорд, который поспешили назвать абсолютным. И теперь всякий раз, на турнирах, собирающих мировую элиту прыгунов в длину, «кузнечики» соревнуются не столько друг с другом, сколько с темнокожим американцем Бобом Бимоном, улетевшим на Олимпийских играх в Мехико на 8 метров 90 сантиметров. Тогда говорили и писали, что Бимон улетел из века двадцатого в двадцать первый. Тогда казалось: это надолго, если не навсегда. Потрясение было велико, особенно для тех, кто прыгал в одном секторе с Бимоном. Один из его соперников Игорь Тер-Ованесян, участник пяти Олимпийских игр, рекордсмен СССР и Европы, признался потом, что этим фантастическим полетом Бимон уничтожил целое поколение прыгунов… Но сам Тер-Ованесян, как выяснилось, оказался несломленным и сумел, уже в новом качестве – главного тренера сборной СССР по легкой атлетике, организовать планомерный штурм неприступной твердыни – бимоновского рекорда…
Невозмутимый Саша Чуркин из «Комсомолки», годящийся по возрасту мне в сыновья, а Ваньяту во внуки, должно быть, посмеиваясь про себя над разгорячившимися отцами и дедами, смиренно просит обратить наше внимание, отвлеченное появлением Дмитрия Полонского и его рассказом о своем новом фильме, посвященном 90-летию современного олимпийского движения, на сектор прыжков с шестом…
– Сейчас Бубка, – говорит Чуркин тоном заклинателя змей, – легко, с первой попытки, с большим запасом возьмет высоту шесть метров один сантиметр…
Пока Чуркин заклинает, пока Бубка бежит с шестом наперевес, попробуйте представить себе, что вам надо забросить мяч в баскетбольную корзину, установленную на высоте, почти вдвое превышающей обычную. Представили?.. Теперь вообразите, что вам надо забросить в эту корзину самого себя… С помощью шеста, упругого и пружинистого, как лиана… Вообразили?.. Вы можете сказать: «При чем тут, собственно, баскетбол, когда мы находимся в секторе для прыжков с шестом?» Но разве прыгун, посылающий себя в поднебесье силой шеста, согнутого, как тетива лука, не похож на баскетбольного центрового, бросающего по кольцу крюком? Та же текучесть и плавность жеста, то же ощутимо долгое накапливание кинетической энергии и – взрыв-разрядка!
У каждого выдающегося спортсмена (донецкого студента, установившего на Играх доброй воли мировой рекорд, президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч назвал на пресс-конференции в Москве на следующий день после покорения «седьмого неба» самой крупной фигурой современного мирового спорта) свой стиль – уникальный, неподражаемый. Но есть и общее у тех, кто ближе других приблизился к идеалу совершенного движения, кто одухотворил физическое усилие, вдохнул в соперничество с высотой, скоростью, тяжестью – поэзию. И когда я нахожу в книге американского ученого Бенджамина Лоу «Красота спорта» описание стиля бега Джека Лавлока, чемпиона Олимпийских игр 1936 года на дистанции 1500 метров, я вспоминаю и год 1986‑й – Эдвина Мозеса, пронизанного ритмом, как саксофонист Чарли Паркер, установившую в Москве у нас на глазах мировой рекорд в семиборье Джекки Джойнер, быстрейших людей Земли – канадца Бена Джонсона и американца Карла Льюиса, и неувядаемую ленинградку Марину Степанову, штурмующую барьеры в беге на круг отчаянно и дерзко, с вызовом молодым соперницам и всесильному времени, вспоминаю рекордный заплыв Владимира Сальникова на 800 метров – заплыв, а не забег, наконец прыжок Сергея Бубки – прыжок, не бег, но описание бега полувековой давности объемлет все, отмеченное печатью совершенства и красоты… Вот это свидетельство очевидца: «Тем, кому посчастливилось видеть его бегущим, казалось, что это чистейшее колдовство: нечто почти сверхчеловеческое в совершенной координации каждого его движения, видимое отсутствие напряжения и лиричная плавность стиля и ритма бега. Воистину это была поэзия движения…»
Лиричная плавность – свойство сугубо индивидуальное, да и вряд ли острый ритм барьерного бега или реактивная тяга спринта могут быть напевными, кантиленными, плавными… Остальное в этом описании, повторяю, касается всех, кто способен создать в спорте, как выражаются соотечественники Б. Лоу, величайшие моменты…
Есть, правда, еще одно качество, без которого останутся невостребованными, непроявленными и совершенная координация, и абсолютная музыкальность (только музыка способна передавать чувства в чистом виде), и легкость творения… Твардовский для обозначения этого свойства (речь, правда, шла не о спорте, а о поэзии, но ведь и у нас – поэзия движения) ссылался на Маршака: «Как говорил старик Маршак: “Голубчик, мало тяги…”» Если дрова сырые или печь сложена безруком, если огонь сосны не перемешан с огнем души – толку не жди… Тяги нет – стиль не поможет. Мощи нет – лирическая плавность не вывезет. Таланта, закаленного в огне яростных тренировок современного спорта, недостает – никаким техническим мастерством его нехватку не возместить…
Во время заплыва на 800 метров вольным стилем мы сидели на трибуне бассейна спорткомплекса «Олимпийский» с Виктором Калядиным, спортивным обозревателем «Советской России», человеком в водных видах спорта искушенным (играл в командах высшей лиги в водное поло, помогал Владимиру Сальникову в работе над книгой). Калядин и заметил, что один из участников заплыва столь же рационален в технике, так же экономен в движениях, так же легко лежит на воде, как и Сальников. Но с каждым поворотом Сальников уходил все дальше от своего «двойника», да и от остальных соперников. Почему? «Техника у того, кто плывет по второй дорожке, безукоризненная, – сказал Калядин, – но у Володи гребок сильнее, тягу он развивает куда более мощную…»
Американские чемпионы, сверстники Сальникова, давно уже расстались с водными дорожками и приехали в Москву как телевизионные комментаторы. Два поколения пловцов сошло, так и не сумев победить Сальникова, а он на плаву, он еще в состоянии прибавить тяги в печи и зажечь на электронном табло цифры нового мирового рекорда. Сделать это в плавании в двадцать семь лет то же самое, что на пятом десятке играть за национальную сборную в финале футбольного чемпионата мира или в сорок поднять самую тяжелую штангу на мировом помосте…
Что есть наши воспоминания как не перемешивание в печи огня сосны с огнем души? Огня игры с огнем души? Огня жизни…
Огонь Игр доброй воли был зажжен в большой чаше на Большой спортивной арене в Лужниках. В той же самой чаше, где шесть лет назад горел огонь XXII Олимпийских игр…
Игры в Москве в июле восемьдесят шестого проникнуты олимпийскими идеалами, они, как и Олимпийские игры, способствуют международному доверию и доброй воле к созданию лучшего и более спокойного мира.
Конечно, опасный бег человечества к пропасти не остановит и самое эстетически выразительное зрелище бега на дорожке стадиона, даже если его увидит полтора миллиарда человек (столько телезрителей ежедневно смотрели репортажи с Игр доброй воли). Очевидно, только красота, одна красота не может спасти мир, набитый, нашпи гованный ядерной взрывчаткой (в настоящее время мощность ядерного оружия в полтора миллиона раз превышает мощность сброшенной на Хиросиму атомной бомбы – этих запасов достаточно, чтобы взорвать Землю двадцать раз!)… Спасти мир могут только сами люди – и все, что их объединяет, все, что возвышает дух, просвещает, развивает, все, что помогает человеку понять другого человека, народу – другой народ, – все во благо человечеству, все служит миру.
На Играх доброй воли на первый план вышло объединяющее начало спорта – то, что делает его высочайшие проявления, его высочайшие моменты принадлежностью не одного человека, не одной страны, а достоянием всех, кто присутствовал на трибунах в эти мгновения, всех, кого космические спутники связывали в эти дни со спортивными аренами Москвы, Юрмалы, Таллинна…
Первой, кого поблагодарила Джекки Джойнер после установления мирового рекорда в легкоатлетическом семиборье, была московская публика, неистово и пылко поддерживавшая ее, американку, во время забега на 800 метров – самого трудного вида многоборья для прирожденного спринтера…
Как же это прекрасно, когда человечество, пусть не все пять миллиардов, а только небольшая часть – несколько десятков тысяч, собравшихся в июльский летний вечер под вечерним сиреневым московским небом, болеют только «за» и не болеют «против» и щедрости этих представителей человечества хватит на все пять миллиардов, щедрости и доброй воли понять друг друга и поверить друг другу…
…И когда Джекки, словно сотворенная божественным стеклодувом из золотистого песка и огня, пленительная длинноногая Джекки финишировала с новым мировым рекордом, толпа снимающей братии ринулась к ней и поглотила ее – даже сверху, из ложи прессы, страшно было смотреть на этот водоворот, не то что быть там, внизу… Но недаром Джекки когда-то очень прилично играла в баскетбол: серия обманных финтов – и она вырвалась из толпы и побежала по дорожке, салютуя московской публике, а рядом с ней бежало трое или четверо журналистов – самых расторопных, самых профессиональных и молодых… Один из них очень похож на…
– Смотри-ка, Кирилл, – показывает на дорожку Рейма Руханен, – берет первое интервью у новой мировой рекордсменки. Интервью на ходу – вот как надо работать!..
И когда только Кирилл Набутов успел скатиться вниз, проскочить сквозь все препоны и очутиться одним из первых рядом с Джекки Джойнер – ведь он только что сидел (нет, стоял) около нас и вспоминал, как три года назад на первом чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки он и Рейма Руханен…
Рейма говорит, что за эти три года Кирилл явно вырос как репортер, и теперь даже у быстрейшего бегуна планеты Карла Льюиса нет ни малейшего шанса убежать от корреспондента Ленинградского телевидения и Всесоюзного радио…
Мой старший товарищ посмеивается над моим юным собратом в общем-то беззлобно, но пропускать удары не в наших правилах, и я поднимаю брошенную перчатку:
– Только у Эдвина Мозеса и Реймы Руханена была такая совершенная техника прохождения барьера. Секунды, правда, у Реймы не совсем те, что у Эдвина, но кто считает…
Рейма не остается в долгу и не сразу, пропустив несколько номеров программы, чтобы удар получился побольнее, с оттяжкой, елейным голосом интересуется, помню ли я, как их ведлозерская сельская команда, в которой был здоровенный парень, бивший по мячу, как колуном по чурке двумя руками, сцепив их в замок, так вот, помню ли я, как они чуть не «приложили» столичных пижонов, игравших в волейбол по всем правилам науки… Столичных, спешу пояснить, значит петрозаводских, потому как мы с нынешним обозревателем АПН – родом из Карелии и свои первые шаги, в том числе и в спорте, делали на карельской земле…
Этого я не помню, зато помню, как тридцать лет назад здесь же, в Лужниках, на первой Спартакиаде народов СССР в первый (и последний) раз отдельной командой выступала Карелия, и девочка из нашего класса, к тому времени уже студентка Петрозаводского университета, в карельском народном костюме с другими спорт сменками в национальных нарядах своих республик поднялась в правительственную ложу с букетом в руках, а потом, играя за бас кетбольную сборную Карелии, установила абсолютный рекорд всех спартакиадных турниров, забросив в семи матчах все до единого штрафные…
Рейма стал чемпионом Петрозаводска по барьерному бегу чуть позже, в сборную республики тогда не попал, а на Спартакиаду приехал по туристской путевке. Я проходил на лужниковские арены «зайцем», то есть наполовину «зайцем», по билету участника Спартакиады, хотя ни в одну из сборных Ленинграда не входил, зато мой товарищ по Ленинградскому университету защищал честь города на Неве в одной из игровых дисциплин, ничем, кроме своей игры, тогда особо не интересовался и спокойно одолжил мне свой билет как пропуск на соревнования по всем видам спорта…
Огонь игры с огнем души в печи перемешайте…
«Песенка об открытой двери» еще не написана Булатом Окуджавой, но двери открываются, открываются души и сердца… Время надежд и перемен, время нашей молодости…
Уже вернувшись домой из Москвы, я включил телевизор, чтобы посмотреть «Зеркало сцены», и услышал, как об этом же своим юным студийцам, городу и миру говорил Олег Табаков, актер и режиссер, один из основателей театра «Современник», столь много значившего в нашем осознании себя гражданами своей страны, говорил об этом с признательностью судьбе, с чувством благодарности друзьям, соратникам, учителям…
«Благодарность – это самое сердце счастья, вычтите из счастья благодарность, и что останется?» – написал недавно Сергей Сергеевич Аверинцев, тридцать лет назад студент филологического факультета Московского университета, занимавшийся античностью, что, по его собственному признанию, подростки тех лет воспринимали как юродство…
В спорте (к этому пониманию приходишь с годами) самое дорогое – его объединяющее начало, то, что делает его службой понимания. А понимание невозможно без любви, без благодарности к тем, кто открывал тебе жизнь как чудо, кто подарил тебе на этом вот стадионе на берегу Москвы-реки напористый, всесокрушающий бег Куца (тогда, тридцать лет назад), длинные рывки непредсказуемого Стрельцова (вот у кого текучесть пластики и реактивная тяга в союзе, в гармонии), прощальный матч Яшина, когда я впервые почувствовал братское единение со всеми собравшимися на трибунах, впервые осознал, что благодарность есть самое сердце счастья – что как не благодарность великому вратарю собрало всех нас на матч динамовцев с футбольными «звездами» мира в мае 1971 года?
Вот уж не думал, что через пятнадцать лет после того прощального матча, через тридцать лет после открытия стадиона в Лужниках снова испытаю это счастье – когда все желают победы всем, не заслуженное мной неожиданное счастье на трибунах стадиона, где, как на всех стадионах Земли, мир поделен на своих и чужих, наших и ненаших.
«…Счастье нельзя получить по векселю, – снова сошлюсь на Аверинцева, – счастье получают только в подарок. Его незаслуженность и неожиданность – непременные свойства».
1986
Огонь в крови
Латуа! Латуа!В год московской Олимпиады в Петрозаводске напечатали «Тяжелые крылья» – книгу моих документальных повестей о выдающихся спортсменах Карелии. Всех своих героев я хорошо знал, записывал их исповеди на магнитную ленту и в блокноты. Всех, за исключением Федора Терентьева. Талантливейшего лыжника-гонщика, вольнолюбивого, неуступчивого ни на лыжне, ни на дорогах жизни.
Федор Терентьев умер тридцатисемилетним, в 1963‑м. Жил он тогда в Ленинграде, учился на военном факультете Института физической культуры имени Лесгафта, истово тренировался, всерьез нацеливался на Олимпиаду-64 в Инсбруке: «Я еще пригожусь. Я и в сорок золотую медаль добуду». 20 января в Кавголово пробежал гонку на соревнованиях армейских лыжников, сел в свою «Волгу» и поехал в баню. Попарился, выпил, как водится, и снова сел за руль – поставить машину в гараж. Уснул на сиденье и не проснулся. Выхлопные газы попадали в салон…
Все, что я знаю о Федоре Терентьеве, я знаю от других – его родственников, земляков, соперников по лыжне, товарищей по золотому эстафетному квартету в итальянских Альпах, где в 1956 году советские спортсмены дебютировали на зимних Олимпийских играх. Ни в Альпах, ни на Празднике Севера в Мурманске, ни на Уктусских горах на Урале, ни в финском Куопио я Терентьева не видел. Телевидения тогда не было, только в киножурнале «Новости дня» и в хроникальных олимпийских фильмах можно было увидеть Терентьева, Аникина, Колчина, Кузина, сражавшихся на равных и даже побеждавших лыжных королей из Финляндии, Норвегии, Швеции.
И все-таки я видел Федора Терентьева на лыжне и даже болел за него, потому что он выступал за ОДО – Окружной дом офицеров. Тогда, сразу после войны, наши сердца были отданы армейским спортсменам, тем более что в Петрозаводске, напротив 9‑й средней школы, где я учился до пятого класса, был штаб Северного военного округа, и мы, ребята с Закаменского переулка, поголовно болели за команду ОДО в хоккей с мячом во главе с Николаем Шогиным и сами играли за юношеские команды ОДО в футбол, баскетбол, волейбол. Я на городских соревнованиях еще метал диск и гранату. А зимой на лыжах гоняли, с трамплина прыгали, и в хоккей в Парке пионеров отчаянно бились. В том, не строго специализированном спорте второй половины сороковых – начала пятидесятых все мы были совместителями. В спорте так высоко, как Федор Терентьев, не залетали, нас природа так щедро не одарила. Да и был он, 1925 года рождения, старше меня и моих одноклассников и дворовых приятелей на одиннадцать-двенадцать лет. Стоит ли удивляться, что деревенский парнишка, сызмальства приученный к крестьянскому труду, рыбак, лесоруб, охотник, с выносливостью лося и силой кузнеца был мастак и в легкой атлетике, и в велосипеде, и в лыжах, и в одно распрекрасное утро выиграл в Петрозаводске на окружном чемпионате на стадионе «пятерку» (бег на 5 километров), пообедал, чуть отдышался и открутил «полсотни» на шоссе, никому из велосипедистов-шоссейников не уступив.
Хорошо помню Пятый карельский лыжный праздник, на котором взошла звезда Федора Терентьева.
Февраль сорок шестого, очень снежная, морозная зима, вдоль улиц тянутся высокие сугробы. В школу в сорокаградусные морозы мы не ходим: в гороно о нас заботятся, боятся, чтобы дети не обморозились. Спасибо тебе, гороно: уроков не задают, в школу спешить не надо, мы крутимся на лыжах в онегзаводской ямке, осваиваем насыпь на Гористой, у нас тут свой самодельный трамплин, прыгаем с трамплинов еще в одной ямке – котловане напротив разрушенной гостиницы на углу улиц Ленина и Энгельса. И всем двором, на лыжах, спешим утром вверх по Гоголя, где она пересекается с Анохина, к месту старта лыжного праздника.
Народу – не протолкнуться. Лыжники с гранатами за поясом, с противогазными сумками на боку – нам, первоклассникам, в сорок четвертом-сорок пятом эти сумки заменяли портфели и ранцы.
Мгновенно оценив обстановку, выбираемся из толпы и катим на кручу над рекой Лососинкой – отсюда трасса великолепно просматривается, видно, как лыжники бегут в противогазах, снимают их, метают гранаты, преодолевают препятствия. Кто победил – не помню, из специальной радиомашины назвали имена призеров, да в шуме и гаме толпы мы не разобрали имена. В газетных подшивках, уже работая над повестью, нашел отчеты о лыжном празднике: из четырех дистанций Федор Терентьев (Красная Армия) выиграл три. Значит, я видел тогда Терентьева, а за первыми мы табуном ходили. Федина сестра Федосья, учившаяся в Петрозаводске в техникуме (у Терентьева было восемь братьев и сестер), рассказывала мне, что ее знаменитый брат был очень добрым человеком, дети окружали его гурьбой, рассматривали лыжи и палки, и он с ребятней подолгу разговаривал, забывая об усталости.
Про Терентьева, парня из глухих лесов, стали писать не только в карельских, но и в московских изданиях. Никому еще вчера не известный красноармеец в апреле сорок шестого оставил позади себя на Празднике Севера в Мурманске признанных корифеев лыжных гонок – Ивана Рогожина и Павла Орлова и стал абсолютным чемпионом Праздника. Очеркиста «Огонька» поразила страсть, с которой вел гонку Терентьев, мощь его бега. Весело и зло покрикивал он «Латуа! Латуа!», настигнув очередного соперника и требуя уступить ему лыжню.
Алексей, сын Федора и его второй жены Полины, прочитав мой очерк о Терентьеве «Паданы – Кортина д’Ампеццо», опубликованный в журнале «Север» в 1970‑м, разыскал меня через издательство «Карелия», а через девять лет помог в работе над повестью: целую зиму почта доставляла на мой ленинградский адрес (в семьдесят первом я переехал из Петрозаводска в Ленинград) его письма – воспоминания, вырезки из газет, копию протокола общего собрания сборной команды СССР от 10 ноября 1959 года, где разбиралось персональное дело члена сборной команды СССР Ф. Терентьева.
Полина Мироновна, мать Алексея, жена Федора, с которой я встретился в первые дни семьдесят девятого в Таллинне, куда она переехала из Москвы, выйдя замуж за Рейна Тикка, сильного эстонского лыжника-гонщика, рассказала, что за инцидент произошел в Златоусте, послуживший поводом для собрания, которое постановило «за грубое и пренебрежительное отношение к жене, что выразилось в хулиганском поступке, а также к коллективу участников сборов вынести тов. Ф. Терентьеву строгий выговор с последним предупреждением и сообщить по месту службы».
Федор Терентьев был яростный, взрывной, вспыльчивый человек. В гневе мог дров наломать. Почему он взорвался тогда, что разъярило его, Полина так и не узнала. Разгневавшись на молодую жену, изрезал на полоски ее лыжные ботинки. «Когда я забрала из его комнаты в гостинице сверток с ботинками и развернула, то увидела одни полоски кожи. Массажистка сборной, которая жила в комнате со мной, увидела это и всем разболтала. Через два дня устроили собрание. Конечно, дело не только в этих несчастных ботинках. Он был в тот год очень нервным, язвил в адрес молодых. По-моему, он переживал, видел, что на горизонте появляются серьезные конкуренты. У вас есть протокол, кое-что из него понять можно. Мне же стыдно, что все это произошло, что все это обсуждалось. Неровный он был человек, переменчивого настроения, трудно с ним было. А ведь сколько прекрасных качеств имел – прямой, честный, доброе сердце. С другой женщиной, возможно, был бы счастлив, А он вот на мне женился. Прославленный, великий лыжник Федор Терентьев и Полина Шмерко, выступающая еще по девушкам за “Динамо”. Девятилетняя разница в годах, наверное, была заметна, но не в возрасте дело. Просто по всему мы были не пара – теперь, когда столько лет прошло, это совершенно ясно. А тогда мучились, страдали и в конце концов расстались. На развод, правда, не подавали – просто стали жить в разных городах. Он в Ленинград уехал, а я в Москве осталась».
Это было ее второе адресованное мне письмо, апрельское. А в первом, январском, она призналась: «Я вчера всю ночь проплакала – сыну письмо писала в Москву. Вы ведь знаете, что наш сын Алексей в Москве живет? Я пишу своему сыночку, плачу, сама вспоминаю, как мать говорила Федору в деревне, куда мы вместе ездили: “Ну что, мудрец, опять намудрил?” И мой мудрец – вылитый Федор. Такой же честолюбивый, одаренный и упрямый. Французскую школу с золотой медалью окончил, поступил в институт иностранных языков имени Тореза – все данные у него, чтобы учиться, все… Так что вы думаете? Ушел из института – женился, ребенок родился. Отец семейства, видите ли, – сам буду на хлеб зарабатывать, ни на чьем иждивении жить не намерен. Работает теперь в типографии, семью кормит. Отец его такой же был: какую цель поставит – горы свернет, а своего добьется. И самостоятельностью Алешка в отца, и руки оказались умные, как у Федора, который все мог сшить, отремонтировать, построить, переделать».
И руки оказались у сына умные, как у отца, и голова светлая. Алексею было всего шесть лет, когда погиб отец, который любил сына какой-то лихорадочной, виноватой любовью: сокрушался, что у него, вечного странника, как все большие спортсмены, не было возможности подолгу быть с парнишкой, воспитывать его по своему разумению. Обрывочны воспоминания маленького мальчика об отце, как мимолетны и редки были встречи с ним, но схожесть их натур, поездка после окончания столичной языковой школы летом в Паданы на отцову родину, где сердце обмерло, словно он, как блудный сын, вернулся с чужбины в родной дом, помогли ему понять отца. Столичный житель, сын догадался, как маялся отец вдали от своей деревни, своего озера, от окрестных косогоров, от каменистого берега, вдали от родных, каково ему было в девятнадцать лет оторваться от деревенских корней и после непродолжительной службы в армейских гарнизонах переехать на постоянное место жительства в огромный город. Открылось ему тогда, в первую паданскую поездку, а додумано было позже, что его отец так всю жизнь между двух берегов и мотался: от деревенского, каменистого, оторвался, а к городскому, асфальтовому, окончательно не прибился. Сын тосковал по рано ушедшему отцу. Отец все годы городской жизни тосковал по родной деревушке Погост (Кириккопуоли по-карельски), что неподалеку от большого села Паданы, по родной Карелии, «надеялся, наверное, что его Карелия сама молча скажет, как ему быть, что ему делать, когда он нигде и ни у кого не находил ответа на мучившие его сомнения…»
Своя своих не познаша: братья и сестры Федора, любившие своего знаменитого брата, укоряли его за нетерпение, за трудный, максималистский характер, за то, что он, мятежный, независимый, яростный, сам отпугнул свое счастье…
Своя своих познаша: сын Федора Терентьева, выслушав дядей и теток, их похвалы и укоры в адрес отца, раскинул собственным умом и написал о нем точнее, чем кто-либо из родни: «Он хотел во все мгновения жить в полную силу, жадно жил, нервничал от любой заминки… Как спортсмену ему было присуще мощное внутреннее стремление добиваться везде и всюду неординарных, высочайших результатов. Видно, он сам себе дал слово пройти жизнь в подъем, зажег в себе огонь и не давал ему потухнуть».
Мой коллега и друг Станислав Токарев, в 1960 году молодой корреспондент «Советского спорта», командированный в Свердловск для освещения чемпионата страны по лыжам, сразу почувствовал доминанту состояния Терентьева на чемпионате: яростное желание борьбы, яростное ведение борьбы.
Заканчивая повесть осенью 1979‑го и собираясь послать рукопись в Петрозаводск, я позвонил Станиславу в Москву: «Ты видел столько великих чемпионов. Скажи, какой человеческой породы был Федор Терентьев и кого бы ты мог поставить рядом с ним?» И Токарев ответил: «Федор Терентьев разинско-пугачевской породы человек – мятеж, вольность, ярость у него в крови. Пожалуй, за четверть века в спортивной журналистике я встретил только троих мятежников. Это конькобежец Евгений Гришин, биатлонист Александр Тихонов и лыжник Федор Терентьев».
Повесть о Терентьеве «Терпение, терпение, терпение…» я не могу включить в эту книгу: она слишком велика по объему. За десять лет до этого я написал о Терентьеве очерк, его напечатал журнал «Север». В очерке герой получился благостным, родственники, тренеры, товарищи по олимпийской команде припоминали Терентьева в лучшие минуты его жизни, старались воздать ему должное, при жизни недоданное. В повести мои соавторы вспоминают его в разные периоды жизни, не только безмятежные. Да и не знал Федор Терентьев безмятежных дней, такие, как он, во все времена ищут бури…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.