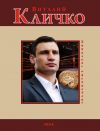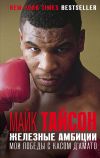Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 53 страниц)
Нить Магды
Через двести лет после рождения Пушкина, считавшего страсть к игре сильнейшей человеческой страстью, петербургское издательство «Пушкинский фонд» выпустило по-пушкински страстную книгу прозы и поэзии Магды Алексеевой «Как жаль, что так поздно, Париж!».
Как мало нас! Как странно мы щедры:
Уходим, расстаемся, забываем…
Дожди летят и вьюги завывают,
Но кто-то ж знает правила игры!
Щедрая Магда, дочь венгерского политэмигранта Йожефа Грайнера, журналиста «Гудка», и переводчицы Эмилии Гекк, чьи эльзасские предки жили в России с XVIII века, родилась в Москве 4 ноября 1931 года. Ей было десять лет, когда она в последний раз увидела своего арестованного отца. Мать вернулась из лагеря еще при жизни Сталина. Дочь «врагов народа» Магда Грайнер после окончания факультета журналистики МГУ уехала в Питер к мужу, философу Борису Алексееву, и стала одним из самых авторитетных редакторов и публицистов города на Неве. Путеводными для нее были слова Герцена: «Кто мог пережить, должен иметь силу помнить».
Свою третью, мемуарную, книгу она назвала «Попытка вспомнить». Подводя в ней «окончательные» итоги, она признается, что главным в жизни были не газеты, проза и стихи, а люди. Не только близкие, все люди.
Читая Магду, я вспомнил Иосифа Бродского: «Люди – это то, что мы о них храним в памяти. То, что мы называем жизнью, в конечном счете путаница воспоминаний других».
Нить Ариадны, дочери критского царя Миноса, позволила афинскому герою Тесею, победившему Минотавра, выбраться из лабиринта. Нить Магды помогает нам разобраться в путанице сложного мира и бесстрашно отстаивать свободу.
Тем, кто работал с Магдой, одиннадцать лет отдавшей спортивной газете, повезло. Рядом с ней стыдно было опускать руки, бояться, писать неталантливо. Целое поколение молодых спортивных журналистов вышло в люди, держась за нить Магды.
Магда умела влюблять и влюбляться. Со всей безоглядностью азартной натуры она влюбилась… в спортивную игру, в футбол, на который впервые в жизни пришла 2 мая 1984‑го; в тот год «Зенит» стал чемпионом страны. В антологию советского, российского рассказа я включил бы «Ложу прессы» Алексеевой. Футбол в ее рассказе – это сама жизнь, а спортивные журналисты работают так, как другим и не снилось, то есть всегда.
Так работала всегда – и работает! – и сама Магда, которой рано подводить «окончательные» итоги. Мы еще повоюем, Магда Иосифовна, поборемся. Как там у Тютчева:
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
2011
Второй фронт Марии Мининой, или Укор одной судьбы
Петрозаводск – ЛенинградМы привыкли к словосочетанию «уроки судьбы», хотя и не спешим сделать своим чужой опыт, извлеченный из этих уроков. Я же хочу написать об укоре одной судьбы.
Укор – это обвинение, самообвинение, жгучее чувство вины, не оставляющее даже без вины виноватых. Хотя «без вины виноватых» в общем-то не бывает. За исключением безгрешных младенцев и людей с невключенным моральным сознанием (другими словами, людей без стыда и совести), все мы виноваты перед теми, кто любил нас и кого любили мы. И нет нашей вине искупления…
С Марией Ефимовной Мининой я дружил четверть века. Она была моей героиней в обоих смыслах слова: я писал о ней очерки, документальную повесть и преклонялся перед нею, мужественной женщиной, выстоявшей в самое тяжкое время, в блокадную зиму сорок второго.
Родившаяся 1 августа 1910 года в Петрозаводске, жившая с отцом, рабочим Александровского завода, матерью и шестью братьями и сестрами у Зарецкой церкви, с восьми лет месившая тесто в громадной квашне, таскавшая в бельевой корзине уложенные матерью-хлебопеком по семь буханок на базарчик возле пристани, облазившая на Зареке все высокие деревья и столбы, бросавшая камни дальше мальчишек, съезжавшая с горок на лыжах из клепки для бочек, побеждавшая в предвоенной Карелии в спринте, прыжках в длину и высоту, метании копья и гранаты, не знавшая поражений на первенствах Карелии по лыжным гонкам, в 1934‑м Мария Минина была назначена начальником физподготовки Петрозаводского пограничного отряда, а через два года переведена на такую же должность в пограничный отряд в Ленинграде.
Выдвинувшаяся тогда же в ряд сильнейших лыжниц Советского Союза, преподававшая на кафедре физвоспитания Ленинградского электротехнического института инженеров сигнализации и связи, жившая с мужем Артуром Яковлевичем Шехтелем, известным спортсменом, тренером и двумя сыновьями-близнецами Яшей и Артуром, родившимися за три года до войны (старший ее сын от первого брака Костя был старше близнецов на девять лет), в маленьком доме у стадиона «Динамо» на Крестовском острове, – в страшную блокадную зиму сорок второго она несла воинскую службу на военно-учебном пункте № 1 при стадионе «Динамо», где известные спортсмены учили гранатометанию, штыковому и рукопашному бою, ходьбе на лыжах, преодолению препятствий сугубо штатских бойцов Всевобуча. Из четырех инструкторов в строю тогда осталась одна Мария Минина.
Страшная зимаМужчины-инструкторы не выдержали, не вынесли. Умер от голода тренер сборной Ленинграда по легкой атлетике Берзин. В тяжелом состоянии был отправлен в госпиталь известный лыжник Киривайнен. Метатель Шехтель, муж Марии, сильный, жилистый, выносливый, лежал дома с распухшими коленями рядом с четырехлетними сыновьями-двойняшками.
Все тогда держалось на стадионе «Динамо» на одной женщине. Да разве только на «Динамо», разве только в осажденном Ленинграде?.. Федор Абрамов, приехавший на побывку после ранения в родную архангельскую деревню и увидевший, кто тянет на себе тяжкий воз тыловой жизни, напишет: «Русские бабы первыми открыли второй фронт». Они сделали это задолго до наших союзников по антигитлеровской коалиции.
Русская баба петрозаводского замеса, Марья-тестодел, как ее мамка называла, петрозаводско-ленинградская пограничница, мастерица на все руки в занятиях ратных, спортивных, мать трех сыновей, жена не поднимающегося с койки мужа, тянула за собой по километровому кругу, лыжне, опоясывавшей стадион «Динамо», цепочку мужичков, через час ходьбы падавших в снег, поднимала их, уговаривала потерпеть, взывала к их мужскому самолюбию – в четыре смены, от темна до темна, за себя и за того парня, за тех трех парней, что спеклись, сошли с дистанции, а она не могла этого себе позволить: все было на ней одной на военно-учебном пункте № 1, и жизнь ее самых близких, родных людей она держала в своих руках, и сердце всякий раз обрывалось, когда, отмантулив четыре рабочие смены, она открывала двери своего дома и не знала, повернутся ли на скрип две детские головки – в столовой она хлебала только воду из супа, а гущу несла домой ребятишкам и мужу.
И вот этой-то баландой, этими харчами однажды ее попрекнул один из бойцов, когда она сделала ему на лыжне замечание:
– Вы, небось, не на наших жидких харчах тянете! Чего вам не бегать…
Не могло мужское воинство поверить в превосходство женщины – добро бы еще бой-бабы, кровь с молоком, а их инструктор была хрупка, невесома, как рюмочка, на прозрачном лице бледно-голубые глаза слезились от встречного ветра; замерзающий воробышек, она казалась слабее всех, а получалось, была всех выносливее – и это немыслимое сочетание хрупкости, почти бесплотности, блеклости красок и поразительной, без надрыва и надсада, неутомимости, бодрости и даже лихости (бедовая Марья!) поражало своей неестественностью, нереальностью, мучило вояк своей загадочностью…
Вся тянувшаяся за Мининой цепочка тогда остановилась – что-то ответит инструктор бойцу? Посмотрела Мария на запаленных, задыхающихся от лыжной круговерти учеников, не дала проснуться обиде:
– Вы, друзья дорогие, себя со мной не равняйте. Я же тренированная, а вы – нет. К тому же вы – мужчины, а разве мужики нашу бабью ношу потянут? А насчет жидких харчей, чего мериться – гуще от этого они не станут…
Татьяна ПрохоровнаВоспитанный бабушкой, Татьяной Прохоровной, тверской крестьянкой, поднявшей двух дочерей (трое других ее детей, рожденных в поле, где лен растили, умерли во младенчестве) без мужа, погибшего на Первой мировой, давшей им высшее образование (у самой было только три класса церковно-приходской школы), крутой и жалостливой, скорой на ласку и на таску, видящей всех попадавших в поле ее зрения насквозь, пекшей вкуснейшие пироги с визигой, капустой, мясом, обшивавшей и обстирывавшей в войну всю нашу большую семью в Астрахани, куда мы эвакуировались из Петрозаводска к ее старшей дочери, сестре моей мамы тете Шуре, я с малолетства знаю, что в нашем отечестве все держится на бабьем долготерпении, незакрываемом втором фронте («я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик»), на великой женской жалости, согревающей крайне несовершенный мужской мир. «И след поэта – только след / Ее путей, не боле». Ее – то бишь женщины. И разве только поэт ранен у нас женской долей, разве не все мы?..
Чем больше живу на земле, что ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, тем больше уверяюсь в правоте моей героини: «Разве мужики нашу бабью ношу потянут?»
Вечное детствоС Марией Ефимовной мы сдружились как-то сразу, словно век были знакомы: она была не из взрослого, чужого мне в общем-то общества, а из мира вечного детства, мира игры и радости. Недаром Федерико Феллини, творец божественных кинофантазий, сказал незадолго до смерти на семьдесят третьем году жизни: «Когда я был маленьким, мои сверстники то и дело говорили: “Вот когда я вырасту…” Я никогда не говорил ничего такого. Я просто не видел себя взрослым. Меня это не интересовало. Ну никак не мог представить, что когда-нибудь вырасту и стану таким же, как все большие дяди вокруг. Может быть, поэтому я состарился, но так и не вырос».
Многие ли могут в этом признаться, не боясь показаться смешными, нелепыми – стариками, впавшими в детство?..
А Мария Ефимовна из него и не выпадала. Детство жило в ней отвагой неведения, готовностью отдаться воле волн, когда пускаешься в очередное путешествие по жизни. Она жила весело и неунывающе, умела не только чужую беду руками развести, но и со своими бедами управлялась, не обременяя близких старческой немощью, не позволяя себе быть кому-то в тягость.
Я познакомился с Мининой вскоре после того, как схоронил бабушку, и хотя Мария Ефимовна родилась всего на два года раньше моей мамы, я обрел в ней бабушку, как ее любимый внук Туська, Артур Шехтель, которого она отвела пятилетним в бассейн к знаменитому динамовскому тренеру, из которого вылепила элитного атлета. С тренерской, естественно, помощью, но без бабушкиной всепоглощающей любви и стальной воли чемпионки-рекордсменки, легко загорающийся, разбрасывающийся, безалаберный внук никогда бы не стал рекорд сменом и чемпионом СССР среди юношей в брассе и в комплексном плавании, мастером спорта международного класса, победителем международных турниров.
Совсем не похожая на мою бабушку (моя, Татьяна Прохоровна, одно временно и старилась и взрослела, мудрела) Мария Ефимовна, как и моя Батаня, как звал я ее в детстве, была классической бабушкой, о которой сказано в далевском собрании пословиц русского народа: «Бабушке – один только дедушка не внук».
Любовь абсолютнаяКак-то, лет двадцать назад, судьба и мой бывший сосед по дому на улице Герцена, у Парка пионеров, Петр Семенович Борисков, карельский литератор, лежавший во время войны четыре месяца в госпитале с будущим автором «Последнего поклона», свели меня в Петрозаводске зимой с Виктором Петровичем Астафьевым. Мы выступали в Доме актера – писатель жил тогда в Вологде, а я в Ленинграде – потом сидели за столом с горячей картошкой и запотевшей бутылкой. Астафьев пел песни на стихи Рубцова, пел жестко, без слезы и надрыва, но так, что до печенок пробирало. Через какое-то время мы встретились с Виктором Петровичем в монтажной Михаила Литвякова, на Ленинградской студии документальных фильмов, где режиссер монтировал первую свою ленту об Астафьеве – кто-то сбегал за бутылочкой, Марья Семеновна, его жена, для порядка поворчала, но мы выпили, вспомнили Петю Борискова и – по предложению Астафьева – помянули наших бабушек. «Ты ведь тоже бабушкин сын?» – спросил он меня скорее утвердительно, не сомневаясь, что так оно и есть, а я, не сомневаясь, что он знает об этом от моего соседа и своего фронтового побратима, симпатизировавшего нашей властной, мудрой, доброй бабушке, кивнул головой и в свой черед поинтересовался, откуда у него такие сведения – небось, от Петра Семеныча? – «При чем тут Петр Семеныч? – воззрился на меня единственным видящим глазом Астафьев. – Как нас бабушка любит – слепо, безоглядно, бескорыстно, так потом нас никто не пожалеет, не полюбит…» – «И что, это как-то видно потом?» – глупо спросил я. – «Еще бы не видно, – рассмеялся Астафьев. – Угадал же я с тобой. Петька, честное слово, ничего мне про твою бабушку не рассказывал».
Я написал позже журнальный очерк «Бабушка и внук» – про бабушку Машу и ее внука Туську, бабушкин хвостик, про то, как бабушки сдувают с нас, своих внуков-сынков соринки-пылинки, забывая наделить нас своей способностью сопротивляться всем особо сложным обстоятельствам жизни, всем ее бедам и напастям. Самокритично, как «бабушкин сынок», я писал о том, что нам, над которыми в детстве тряслись (хотя и трясли, бывало, как грушу – моя бабушка за непослушание или грубость могла и бельевой скалкой отлупить), строгости к самим себе, самодисциплины явно не хватает. Оберегая внука от всего «лишнего», только бы учился, от работы по дому, от всякого рукомесла (а ведь сама, пока руки ревматизмом не перекрутило, все делала, все умела), бабушка нанесла мне урон невосполнимый, и постоянные попреки моей жены – «нет в доме мужика» – это от всепоглощающей, всепрощающей бабушкиной любви, еще более слепой, чем материнская, но менее корыстной…
Менее корыстной, чем родительская любовь, – это очевидно для меня, прожившего детство, отрочество, юность и первую молодость под бабушкиным крылом, живущего вторую половину земного срока без бабушки рядом (и некому осадить меня, когда заношусь, некому сказать внуку с последней прямотой: «Может, где-то там ты и умный, а против бабушки дурак дураком…»), но в ее постоянном присутствии. В послевкусии прожитого под бабушкиным крылом детства остается горечь: всю жизнь ты ищешь, жаждешь любви безоглядной, абсолютной, ищешь и не находишь – так, как бабушка, уж никто и никогда тебя не полюбит.
Другие, не бабушками взращенные, и не подозревают, сколько в любви может быть безоглядности и бескорыстия…
Близость смерти«Я состарился, но так и не вырос». Феллини, снимая свои фильмы, продолжал жить, как в детские годы, когда, по его словам, нас отличает здоровое равновесие между реальным и иллюзорным, сознательным и бессознательным, явью и сном. В его предсмертных воспоминаниях и Смерть увидена глазами мага и иллюзиониста – Смерть приходила к нему много раз во сне в облике женщины сорока с небольшим, в платье из красного шелка с черным кружевом, очень умная, с необыкновенным светом в глазах: «Смерть – она такая живая».
Последние годы жизни он часто лежал в больницах и задумал там снять фильм о болезни и смерти, но отнюдь не печальный.
Не успел.
Последние годы жизни моей так и не повзрослевшей героини, чье путешествие по жизни проходило почти через весь железный и кровавый двадцатый век, тоже связаны и с больницами, и с операциями, неизбежным свитком старости, дряхлости, немощи…
Что, однако, я несу: не было дряхлости и немощи – старость была, она неизбежна в жизни, если, конечно, бомба, пуля, нож, автокатастрофа не оборвут нить раньше. Мария Ефимовна выжила под бомбами, артобстрелами, выжила, когда через год по окончании войны ее восьмилетний сын Артур у стадиона «Динамо» попал под трамвай… Выжила. Вырастила сыновей, внуков, научила искусству конькобежного бега и велосипедных гонок десятки учеников, приезжала по первому зову в школы, спортивные общества, на разные ветеранские встречи: росли новые поколения, и она, единственная в стране, в мире, женщина, ставшая заслуженным мастером спорта в годы неслыханной по жертвам, горю и способности человека претерпеть даже невыносимые страдания ленинградской блокады, до последних дней считала своим долгом рассказывать об этом. О горе и страданиях меньше (так уж она и ее поколение были воспитаны), о противостоянии беде, о героическом блокадном спорте – больше.
Кстати, в «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича нет ни слова ни про блокадный спорт, ни про чемпионат Ленинграда по легкой атлетике в сентябре 1942 года, где Минина выиграла семь видов легкой атлетики. Как нет в ней ни слова о людоедстве в умиравшем от голода Ленинграде: про каннибализм вычеркнула цензура, про спорт авторы не написали сами. Сейчас, обращаясь к блокаде, рассказывают о специальных отрядах по борьбе с людоедством: что ж, нужна вся правда о блокаде – и про то, что доведенный до предельного отчаяния человек расчеловечивался, и про то, что оставался человеком, помогая другим, как Мария Минина.
Старости, дряхлости, немощи Минина сопротивлялась отча янно, с легкомысленной лихостью, словно надеялась выиграть у Хроноса и этот последний забег.
Пришла беда – отворяй ворота. Как бы не так! Бедовая Маша к другому приучена: клин выбивать клином, уж лучше в пучину, чем в кручину. Кручиниться не позволяла ни себе, ни другим. Сколько раз я слышал от нее: «Держи хвост пистолетом!» – в ответ на стенания по поводу разных хвороб и неустроенностей, особенно когда жизнь повсеместно, повсеградно соскочила с наезженной колеи (правда, та колея вела через болото в пропасть) и реформы начали бить по головам тех, кто не успел вписаться в чересчур круто заложенный вираж…
В семьдесят втором, приехав к сестрам в родной Петрозаводск, Мария Ефимовна попала в больницу с гнойным панкреатитом. Карельские хирурги вытащили ее с того света. Первая жена ее сына Якова, мать Артура, Раиса Васильевна, врач, кандидат медицинских наук, защитившая диссертацию по операциям на поджелудочной железе, диву давалась, глядя на свекровь: при этом заболевании выживает один человек из ста, накануне вечером желтые трупные пятна пошли по лицу больной, а утром следующего дня после операции вернулся на щеки румянец!
В сентябре семьдесят третьего Минина слегла с инфарктом, а уже в декабре, хотя и муж, и сын, и невестка-врач не пускали, снова поехала к сестрам в Петрозаводск. Зимой домашние, зная ее беспокойный, непоседливый характер, убрали от греха подальше лыжи, спрятали коньки. И тогда она пешочком, да с ускорением, по любимым островам принялась километры наматывать, отжимаясь на турникетах Кировского стадиона – чтобы прогулка с нагрузочкой была, и дома на перекладине упражнялась: клин – клином…
Мы постоянно перезванивались в семидесятые, но виделись не часто, однажды года четыре я к ней не наведывался, и вот, когда приехал в канун ее семидесятилетия, она очень по-женски спро сила: «Я изменилась?»
Годы гнули, лыжи разгибалиГоды гнули-пригибали, а гоночный велосипед «Диамант» сорок шестого года выпуска и лыжи разгибали-выпрямляли, так что я, не кривя душой, восхитился ее отменной физической формой, красотой, данной от природы и сохраненной жизнью в согласии с самой собой и домашними (как были недемонстративно предупредительны друг к другу Мария Ефимовна и Артур Яковлевич, видный спортивный педагог, обстоятельный, пунктуальный, домовитый, уравновешивающий мининское кипение, как они пасли внука-егозу!), жизнью на природе: большую часть года они проводили в райских кущах, именуемых Крестовским островом, проспектом Динамо – теперь здесь богатые люди живут в богатых коттеджах за охраняемыми заборами, а летом на «сереньком мышонке», стареньком «Москвиче» первого выпуска, укатывали на быструю Вуоксу, на шлюз Гремучий.
Она не укоряла меня, что долго не приходил, наоборот, оправдывала: «Много работаете, я читаю…», но я дал себе слово наведываться к ней почаще, и каждый год мы с женой (они очень пришлись по душе друг другу – Мария Ефимовна и моя Светлана) в девятый день мая ехали к Мининой на Динамо, а потом, когда начали сносить динамовский деревянный городок и их переселили в 1986‑м в район Ржевки-Пороховых, приезжали в день Победы на проспект Энтузиастов.
Последние десять лет Мария Ефимовна прожила на проспекте Энтузиастов, мало приспособленном (как и все спальные районы мегаполиса) для жизни распахнутой, одушевленной (и чтоб дышать можно было полной грудью, и чтоб душа радовалась земле обетования), какой она привыкла жить на Крестовском, за вычетом ада девятисот блокадных дней. Держалась она до последнего за свое динамовское жилище, за маленькую, но двухэтажную квартирку в стареньком доме барачно-коттеджного типа с цветником под окнами, окруженном деревьями с зелеными листьями берез и жгучей крапивой (жена всегда рвала эту мининскую экологически чистую крапиву и делала вкуснейшие щи), как, уже получив ордер на новую, куда более благоустроенную квартиру – сын уже и мебель перевез, она все никак не могла заставить себя уехать с Крестовского. Домашние подтрунивали над ней, она говорила, что поедет, как только там телефон установят, а про себя решила: «Свет и воду отключат, сносить начнут – тогда и поеду, не раньше».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.