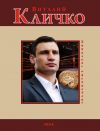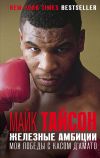Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 49 (всего у книги 53 страниц)
Об этом фильме в тот вечер много говорили в телевизионной аудитории режиссеры, критики, студенты московских вузов, много, иногда толково, всегда эмоционально – смотревших «Dolce» (в переводе с итальянского – «нежно») картина задела за живое. Полнее всех смысл и основное чувство фильма выразил его создатель в рабочих записях 1994 года к фильму «Dolce», опубликованных в его книге «Части речи».
«Человеческая жизнь грустна оттого, что вся она проходит под знаком расставания, разлуки: и рождение есть расставание (с матерью), и смерть – тоже разлука».
Последние шесть-семь лет я возводил строительные леса к двум книгам – той, что вы читаете, и карельскому семейному роману «Дар речи» – о своей семье и семье Светланы, где собственно семейные главы должны были перемежаться рассказами о людях, биографически связанных с моей родиной или встреченных мной на онежскоукшозерских-кончезерских берегах – от Вольдемара Виролайнена и Юрия Андропова до Виктора Астафьева и Николая Симонова…
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Мою заявку на карельский семейный роман рассмотрели и одобрили в правительстве республики, обещали выделить грант на его издание, но когда ушел, «ушли» Сергея Катанандова, поставили крест на этом проекте. С книгой не только о спорте осложнений не предвиделось. Александр Житинский, руководитель издательства «Геликон плюс», в котором в 90‑е и «нулевые» годы я дважды печатался, увидел в моей заявке 2010 года «коммерческую перспективу»: впереди, в 2014‑м, были зимние Олимпийские игры в Сочи, Россия неожиданно получила право на проведение в 2018‑м чемпионата мира по футболу, спорт повсеместно от Питера и Петрозаводска до Краснодара и Владивостока начали усиленно пропагандировать в советском духе как доказательство могущества страны, теряющей свои прежние лидирующие позиции в биполярном мире, в нынешнем глобальном по экономической мощи, уровню жизни превратившейся в середнячка и лишь в спорте высших достижений еще держащейся в лидирующей группе.
Талантливый писатель Житинский, став издателем, надеялся получить на издание «не только спортивной книги» грант правительства Санкт-Петербурга и торопил автора со сдачей рукописи. Но я тянул резину. За двумя глазными операциями последовала третья, сломал шейку бедра и стал инвалидом второй группы. Восстановился сравнительно быстро после операции, глаза, однако, не выдерживали прежнего напряжения: катаракту удалили, но развилась глаукома. Но не это выбило из колеи. Спорт и игра как предмет рефлексии, способ получения новых сведений о человеке, перестали быть для меня захватывающе интересными. По инерции продолжаю смотреть по телевидению футбол, выбираюсь на игры баскетбольного «Спартака» и раз в году на волейбол в Академию Платонова, когда там проходит турнир-мемориал его памяти. Смотреть смотрю, но писать об этом не тянет…
И все же, наверное, Житинский убедил бы автора довести до конца книгу и сдать ее в «Геликон»… Да и жаль было оставлять в старых газетах и журнальных подшивках очерки, репортажи, эссе о моих сокровенных героях из спортивного мира, размышления об игре с точки зрения вечности, о спорте как отражении противоречивой сущности современного общества… Не знаю, как все повернулось бы, – 19 января 2012 года я позвонил Саше, как всегда в последние сорок лет, поздравить его с днем рождения, мы условились встретиться у него дома на Каменноостровском в один из первых дней февраля сразу же после его возвращения из Финляндии, где он собирался поработать в доме младшего брата Сергея на окраине города Миккели, и поговорить предметно о составе моей вроде бы спортивной книги и об окончательном сроке сдачи.
Человек предполагает, а Бог располагает. Выйдя 25 января из дома брата после утреннего кофе размяться, продышаться перед работой, Житинский сделал несколько шагов по лесной дорожке («Сашка, не торопись, можешь поскользнуться!» – крикнул задержавшийся у выхода брат) и… рухнул в снег. «Вставай, простудишься, что за игры на морозе…», а ноги уже несли Сергея к упавшему брату. Вызвали скорую, но было слишком поздно, по дороге в больницу Александр Житинский умер от обширного инфаркта.
Четвертого февраля, в воскресенье, мы похоронили его в Комарове, на кладбище, где нашли упокоение Анна Андреевна Ахматова, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Владимир Васильевич Торопыгин, поэт, главный редактор журнала «Аврора», где Саша напечатал свои первые повести…
Девятью годами раньше, развеяв над Невой, у спуска на Менделеевской линии прах, мы расстались, разлучились с нашим общим другом Александром Матвеевичем Шарымовым, чью поэтическую книгу Житинский выпустил в «Геликоне» еще при жизни автора, а второе, дополненное издание «Стихов и комментариев» издал через несколько лет после смерти Шарымова, поэта «филологической школы», друга Бродского, Льва Лосева, Сергея Кулле, Владимира Уфлянда, Михаила Красильникова, Александра Кондратова…
Приказал долго жить и аналитический еженедельник «Дело», с которым я сотрудничал десять лет. При моем участии как составителя, редактора и одного из авторов «Дело» выпустило к 300-летию града Святого Петра книгу о пятидесяти знаменитых петербуржцах двадцатого века – «От Распутина до Путина». На страницах «Дела» я вел раздел «Судьбы. Современники»; часть наших – Виктора Бузинова, Николая Крыщука и моих – разговоров со знаменитыми современниками «Геликон плюс» напечатал в 2010 году в книге «Расставание с мифами».
Теперь, когда Житинского не стало, надо было думать, что делать с «Единственной игрой», которую я все меньше хотел делать спортивной, хотя в общем-то спортивных книг я никогда не писал. Одна из них – «Время игры» (М., «ФиС», 1986) – столько же об игре, причем не только спортивной, сколько о времени. Сразу же приступить к завершению книги я не мог, так как вел в московских журналах рубрики «Вольнодумцы XX века», «Свобода по-русски», «Мастера жизни» о философах, социологах, писателях, артистах и режиссерах – надо было выполнить взятые на себя обязательства. К тому же назревала угроза третьей операции на глазах, но после серьезной многомесячной терапии она была отложена до зимы 2014 года.
Завершая работу над рукописью, я снова пересмотрел ее состав и попытался поместить под обложку «Единственной игры» две разных книги – полуспортивную и «Дар речи», документальную повесть о трех семьях, моей, Светланиной и «семье друзей», карельских одноклассников…
Где же еще сочинять правду об этом, сочинять о времени и о том, что оно делает с человеком, как не в Финляндии и Карелии?.. Благо, теперь у меня, у нас со Светланой, помощницей, советчицей во всех моих начинаниях, появилась такая возможность. Наша дочь Таня и ее муж Антон приобрели в Центральной Финляндии северо-западнее города Ювяскюля большой дом в лесу, на берегу Уйттосалми, пролива, соединяющего два озера, с баней, где под одной крышей с сауной находится и гостевая комната, где я и горбачусь за письменным столом овальной формы с утра до позднего вечера, отрываясь лишь для приема пищи в большом доме, бани и рыбалки. Обеспечиваю нашу маленькую семью окунями, плотвой, красноперкой и муйкку (muikku), по-нашенски ряпушкой, рыбкой невеликого размера, но благородного, сигового происхождения.
Муйкку поймать на удочку сложно. Узенькая черноглазая серебристая, она, если вспомнить название сокуровского фильма, который мы смотрели со Светланой перед поездкой к дочери в Финляндию, прикасается к насаженному на крючок червяку дольче (нежно), краешком рта и срывается в темную озерную воду чаще, чем попадает на крючок… Дольче, шепчу я самому себе в ранний час, оставаясь наедине с озером, нарождающимся солнцем, стрекозой на красном поплавке, дольче, нежнее, еще нежнее, и она будет твоя… После пятой-шестой попытки карельского рыболова финская рыбка падает в ведро с водой к жадным окуням, крупным красноперкам и затихает…
Чуть поправив червя на крючке, забрасываю леску и терпеливо выжидаю новую коварную муйкку, не замечая, что поплавок уже утоп лен, потому как писал ночью главу о муммикке, и в не освеженной сном голове выстраивается по созвучию такой ряд: муйкку… муммикка… Макко (Макар)… Михо… Майя…
Михо зовут жену японского писателя Тосио Симао, выдумавшую сумасшествие, чтобы влюбившийся в другую женщину муж не ушел из семьи; Майя – их дочь – лишилась дара речи, поняв, на что пошла мать, чтобы сохранить семью…
Даша Карпова тоже потеряла дар речи, хотя и не всю жизнь, как японка Майя… Но и у нее, будущей актрисы, а тогда маленькой, десятилетней карельской девочки, самое сильное воспоминание детства связано с семьей, с тем, что она должна была спасти от голода и холода младших карповских детей (она не была старшей, старше ее были Маня и Лена). Не знаю, какие картины всплыли перед мысленным взором Дарьи Кузьминичны, когда она на девятом десятке раскрыла красную воспоминательную тетрадь, но могу поручиться, что, начиная свои записки о жизни, она была не в силах побороть в себе любовь ко всему безвозвратно ушедшему, ту любовь, что в середине четырнадцатого века диктовала строки «Записок от скуки» средневековому монаху, философу и поэту Кэнко-Хоси. И тогда на первой странице тетради старая актриса написала имена своих родичей, начав историю карповской семьи с деда Макко (Макара) и бабушки Василисы Мироновны.
Над тетрадной страницей написано по-карельски: Karppazet (Makon perhe) Soudarven kyla. Муммикка ведет свой рассказ не обо всех Карповых, а только о детях и внуках Макко-Макара и Василисы: «В старом большом доме, седом от старости, с огромным сараем-пристройкой, под сараем – хлев и конюшня. Все разделено на две равные половины. Когда-то здесь жила единая большая семья. Когда она разделилась, я не знаю. Наша половина “Makon Karppazet”, а другая половина дома “Vashan Karppazet” (у Макара был брат Василий)».
В большом карповском доме у сына Макара – Кузьмы (1883–1925, он умер молодым: придавило деревом, когда заготовлял лес) – и его жены Марии Алексеевны (1890–1934), в девичестве Никоновой, и родилась 18 марта 1914 года Даша. Ее родная деревня Совдозеро располагалась на берегу двух озер – Сегозера и Совд озера. «Дворов было около восьмидесяти. В отдалении часовенка, окруженная высокими елями. Шум елей – на них жило много белок – в ветреную погоду доносился до нас. До сих пор этот шум звучит в моей памяти как колыбельная песня».
Она хранила шум деревьев от колыбели до последних лет, до последних дней жизни.
Жаль, что Олегу Тихонову с его редким чувством русского слова, талантом распознать дар не просто рассказчика – свидетеля эпохи – не удалось уговорить Дарью Кузьминичну передать свои воспоминания журналу «Север». Другой бесконечно талантливый человек Валерий Приемыхов, актер, режиссер, сценарист, писатель (как прозаик дебютировал в журнале «Аврора» рассказом «Привет, старик!»), на съемках «Холодного лета пятьдесят третьего» заслушивался рассказами нашей муммикки о карельском деревенском житье-бытье и не раз говорил мне, что Дарья Кузьминична Карпова рождена писателем, и мечтал обязательно приехать в Карелию половить рыбку, поесть калиток и послушать ее бесподобные истории – чего только стоит одна, из времен гражданской войны, когда местные бабки засомневались, мужики ли шотландские вояки в юбках, и после проведенной «проверки» удостоверились: мужики…
Эту историю я тоже слышал от муммикки. У нее было потрясающее чувство юмора, все покатываются от смеха, а она спокойно, без аффектации преподносит свои шуточки, нередко соленые: Дарья Кузьминична вообще любила все крепко соленое – и жареную рыбу, и уху, и словцо…
Скажу еще раз: если найдется издатель, если заинтересуется тот же «Север» или какой-нибудь театральный журнал Петербурга, Москвы, Финляндии, семья «муммикки» готова предоставить для публикации ее записки…
Мне остается назвать шестерых детей Макара и Василисы. Это Марфа, самая старшая, Василий, Кузьма, Михаил, Федосья, Иван. У Андрея, маминого брата-близнеца, повествует Дарья Кузьминична, было двое детей: сын, арестован в 1937‑м, и дочь, умерла в 1970‑м. У старшей сестры отца Марфы, вышедшей замуж за Захарова из Святнаволока, было три дочери и два сына. У брата отца Василия три сына и одна дочь. Два сына репрессированы в 1937‑м.
У Кузьмы Макаровича и Марии Алексеевны тоже было шестеро детей: четыре дочери – Елена, Мария, Дарья, Татьяна и два сына – Степан и Максим. Двадцатидвухлетний Степан погиб в 1941‑м, надо полагать, на войне.
Закончить главу о холодном лете пятьдесят третьего, об укки и муммикке хочется стихами Павла Громова, известного литературоведа, автора исследований о театре, сегозерского земляка и друга Дарьи Карповой по школе-девятилетке:
Дружбы тень была в девятилетке
Преданности, преданной до дна –
Случай, может быть, совсем не редкий –
Потому что дым времен, война.
И еще из того же стихотворного сборника «Прекрасное трагическое небо», вышедшего в 2013‑м, через тридцать лет после смерти Павла Петровича (его составителями были аспирантка Громова, ныне профессор Петербургской театральной академии, ближайшая подруга Инны Ланкинен Н. А. Таршис, и помогавший ей москвич В. И. Орлов):
Может, жизнь я начал слишком пряно,
Рано выговорился до конца,
Не хотел бы я сыграть в Ивана,
Брата моего и простеца.
Братик мой, ведь все стоит на крови,
На тугой на северной крови,
Только вот на этой вот основе
С нас двоих веревки будут вить.
В предисловии Надежды Таршис к книге мыслителя и поэта Громова, не опубликовавшего при жизни ни одного стихотворения, сказано: «Он видел, как поэзия “ворочается” в историческом времени, как она умеет сказать главное о человеке».
Сказано о Павле Громове и о Дарье Карповой. Об их «небывалой памяти» и небывалой жизни.
P. S. Дай немного солгать ближнему своему…2013
– Дедуха, ты опять врешь, правда?..
– Стасик, нельзя говорить старшим – «врешь»! Врут корысти ради, а я сочиняю, фантазирую, у меня такая профессия, нужно поддерживать себя в форме, тренировать воображение, понимаешь?
– Понимаю… Понимаю, что сочиняешь… А что такое корысть? И как это – тренировать воображение, ты же не тренер, а письменник?..
Года три ведем мы с внуком подобные диалоги.
Моя дочь, дипломированный психолог, полагает, что я, общаясь с внуком, не учитываю особенности дифференциальной (возрастной) психологии и своим постоянным выдумыванием-придумыванием (враньем, по терминологии внука) сбиваю мальчика с толку, так как он далеко не всегда понимает, когда ты шутишь, а когда говоришь правду: чувство юмора, различие выдуманного и реального пробуждается в ребенке довольно-таки поздно…
Воспитатель, должен признаться, из меня аховый, но решительно не могу согласиться с тем, что я вру (слово-то какое противное, точно жабу проглотил), когда что-то такое импровизирую, выдумываю.
«Подлинная история вашего сознания начинается с первой лжи». Это Иосиф Бродский, эссе «Меньше единицы» – о ленинградском периоде его жизни. В книге «Набережная неисцелимых», помимо вышеприведенного, есть и эссе «О Достоевском». Пятый из русских писателей нобелевский лауреат утверждает: главная причина того, что через сто с лишним лет после смерти Достоевского его произведения сохраняют актуальность, – в его особом внимании к деньгам, пятой стихии, с которой человеку приходится считаться наравне с землей, водой, воздухом и огнем, в писательском взгляде в будущее сквозь призму бедности и вины.
На мой взгляд, актуальность, даже злободневность творениям Достоевского, в частности его публицистике, придает, помимо умелого пользования подобной мыслительной оптикой и уникального дара психологического анализа и сострадания, еще и особое, трепетное отношение к вечнозеленой в кущах нашего отечества теме правды и лжи, истины и вранья.
«Отчего у нас все лгут, все до единого? – недоуменным вопрошанием открывается главка “Нечто о вранье” из “Дневника писателя” за 1873 год. – …С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве лгут одни только негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями… У нас в огромном большинстве лгут из гостеприимства… Деликатная возможность вранья есть почти первое условие русского общества – всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. …»
Если бы лингвисты взяли на себя труд составить частотный словарь «Дневника писателя», то наиболее употребительными в лексиконе публициста Достоевского оказались бы слова «ложь», «вранье» и их антонимы «правда», «истина». Очень занимала Федора Достоевского психология и ищущего истину, и отклоняющегося в этих поисках с пути истинного человека, и метафизика, онтология лжи.
Проблеме онтологии лжи, пространству лжи и зоне правды в культуре, в межличностном общении, во взаимоотношениях личности, государства, общества посвятил свою кандидатскую диссертацию, защищенную нынешним летом на философском факультете Санкт-Петербургского университета, молодой ученый Александр Секацкий.
Неужели, спросит читатель, автор, призвав в союзники науку, возьмется утверждать, что ложь допустима, а иногда, в малых дозах, к тому же имеет и целительную ценность?.. Мы привыкли совсем к другим речам: не стоит земля без праведника, жить надо не по лжи и т. д. и т. п. И все это тыщу раз правильно. Как идеал. Как мечта. Как стратегический план жизни. Но, друзья, станем в конце концов реалистами, не забудем об оврагах и буераках – ходить-то по ним, а не по лоциям идеалов. Такой утопический, безыллюзорный подход крайне непривычен для нас, пребывавших семь десятилетий в утопическом коммунистическом «раю» с его мифологемами, с необходимостью для выживания постоянно двоедушничать, бесстыдно, беспробудно врать (социальный механизм подобного вранья блистательно описала Лидия Гинзбург на примере некоего литературоведа, сравнившего на конференции в Институте мировой литературы прозу Брежнева с пушкинской, – страх, заметила по этому поводу Л. Гинзбург, искоренил стыд). К тому же выборы в Госдуму на носу, и, стало быть, кандидаты в депутаты пустятся, как заведено, во все тяжкие, наобещают златые горы и реки, полные вина, лишь бы заполучить поддержку встревоженно-пассивного электората.
В такую пору самое время порассуждать об этой тонкой материи. Есть ложь – и ложь. Когда делают комплимент даме, то преувеличивают, как правило, ее достоинства. Когда мужикам обещают в случае прихода к власти по бутылке водки каждому за 3,62, а каждой одинокой женщине – по мужику с бутылкой, то сильно занижают умственные способности, хочется верить, большинства наших сограждан. Когда от неизлечимо больного скрывают всю тяжесть его положения – это одно, когда же измученных, обессилевших в борьбе за выживание стариков и старух кормят обещаниями за год-два преобразить страну, якобы разваленную «дерьмократами», это совсем другое.
Да, народом нашим давно замечено: «Единожды солгав, кто тебе поверит?» Но тот же народ в другую минуту, под другое настроение припечатал: «Не солгать, так и правды не сказать» и «Ко всякой лжи свое приложи». Это – из собранных В. Далем пословиц русского народа. А вот из плавильного тигля национального и всемирного гения Ф. Достоевского: «Дай немного солгать ближнему своему и даже много солгать, и тебе воздастся сторицей».
Врать, слов нет, нехорошо, нельзя; лжесвидетельствовать – Бог не велит, да и люди за это наказывают… Но как же тогда быть с призывом великого христианского мыслителя, крупнейшего русского философа?..
Что до способности выдумывать, сочинять, то не дай Бог, чтобы человек утратил этот уникальный дар – тогда не будет на земле ни сказок, ни песен, ни музыки, и небо нашей сверхполитизированной жизни покажется нам совсем с овчинку, и некому будет облиться слезами над вымыслом…
Внук, скажу по секрету, тоже ведет теперь дневник. «Дневник мальчика Феди».
– Почему Феди, Стасик?
– Не знаю, дедуха. Так интереснее…
Любопытство меня разбирает: мальчик Федя, ставший Федором Михайловичем, вел дневник восьми лет от роду или нет?..
«Невское время», 25 октября 1995 года
Жаркое лето 2010‑го. Семья друзей
Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш,
И наши песни тем грустнее.
Александр Пушкин
Меня тянет рассказывать.
Я отдал игре – спортивной, театральной, дуракавалянию – много, чрезмерно много времени, которым мог бы распорядиться более разумно, тем более что прирожденным лицедеем не был и к полувековому перевалу начал остывать к игре. Единственная игра, которая меня и на склоне лет притягивает, как в детстве, – рассказывать. Рассказывать, прав Феллини, единственная игра, в которую стоит играть всю жизнь.
О чем рассказывать?.. Всегда найдется о чем. Как?.. Стоит начать, найти звук, и определится – как, а дальше тебя понесет звуковая волна и вынесет на берег, коего ты собирался достичь.
Самое важное в этой единственной игре – то место на земле, та пристань, от которой мы пустились в плавание и к которой, куда бы нас ни забросила судьба, мы неизменно возвращаемся.
Моя пристань – Карелия. Меня тянет в Карелию так же, как тянет рассказывать. И как-то само собой получается: о чем бы я ни рассказывал в своих журнальных и газетных очерках и репортажах, где бы ни находился – на Курильских островах, на нефтегазовых месторождениях «второй Тюмени» в Коми АССР, Алтае, Средней Азии, в Астрахани, Бразилии, Аргентине, Японии, Греции, Калифорнии, Грузии, на Украине, Кубани, в Калининграде, я не расстаюсь с моей родиной и, когда пишу, держу перед мысленным взором Карелию. Так, экспедицию на Курилы, где в конце семидесятых-начале восьмидесятых высаживался авроровский десант из журналистов, писателей, художников Ленинграда, я назвал «В поисках НЛО». Имелись в виду не модные тогда неопознанные летающие объекты, а Наши Любимые Острова – Курильские – с фантастической природой и малопригодными для нормальной человеческой жизни условиями. Кроме того, пояснили мы читателям всесоюзного молодежного литературного журнала, издававшегося на берегах Невы, НЛО – это Нева, Ладога, Онего, где мы своей авроровской командой тоже побывали, опубликовав материалы экспедиции, направленные против переброски на юг вод северных озер, в том числе карельского Онего.
И своего первого друга Шурку Герда я обрел в Карелии, летом сорок четвертого, еще военного, года на развалинах Петрозаводского университета. Тогда писали, что центр города, столицы Карело-Финской республики, был разрушен врагом, фашистскими захватчиками, и безногие инвалиды, торговавшие махоркой и папиросами у руин гостиницы «Северная», и старушки, вернувшиеся из эвакуации с внуками, кляли на чем свет стоит окаянного Гитлера и немчуру проклятую, оккупантов, взорвавших и лыжную фабрику, и Гостиный двор, и каменные дома около набережной Онежского озера, и республиканскую библиотеку, и Петрозаводский университет, проректором которого был Шуркин отец профессор Сергей Владимирович Герд, биолог, ихтиолог, а директором огромной университетской библиотеки Шуркина мать Ольга Арсеньевна.
Потом мы узнали, что немчура проклятая, фашистские оккупанты здесь ни при чем, поскольку в Петрозаводске они появились только после освобождения Петрозаводска нашими войсками в июне сорок четвертого и строили (восстанавливали) взорванное его защитниками, чтобы, как повелел верховный главнокомандующий, врагу не досталось ничего, кроме выжженной земли. Зачем было взрывать лыжную фабрику, еще можно понять: финны, оккупировавшие Петро заводск и переименовавшие его в Онежскую крепость (по-фински Äänilinna), были отличными лыжниками и могли при необходимости воспользоваться продукцией карельских мастеров. Но в каких военно-стратегических целях можно было использовать Гостиный двор, гостиницу, библиотеку университета?!
Удивительный писатель, фантазер, сказочник, толкователь сновидений, близкий мне растворенностью в игровой стихии Алексей Ремизов написал в двадцатых годах, что все люди выходят из книги. Через несколько десятилетий Иосиф Бродский скажет, что «человек есть продукт чтения», а Самуил Лурье уточнит – «беспорядочного чтения».
Нас с Шуркой Гердом, «профом», «профессурой», как звали его в петрозаводской школе, где мы учились первые пять лет до переезда Гердов в Ленинград, свела и подружила летом 1944‑го книга – вернее, книги, которые мы с восьмилетним Шуркой (в первый класс мы пойдем только в октябре), путаясь в ногах у взрослых, преподавателей и студентов университета, вытаскивали из руин взорванного здания, извлекали из-под железной арматуры, кирпичей, искореженных полок шкафов и складывали в стопки… Перепачканные с ног до головы, покрытые цементной пылью, с разбитыми локтями и коленками, мы отмывались в квартире дома для преподавателей Петрозаводского университета, вернувшихся из эвакуации из Сыктывкара. В этом доме на Гористой (так называлась улица), у Гердов стояли шкафы с книгами на разных языках и аквариумы. Аквариумов в моем отчем доме до войны не было, а вот книг было множество и самые мои любимые – Брема, и я, помывшись и проглотив сделанные Шуркиной мамой бутерброды, бросился к шкафам и – о радость! – нашел Брема, и фолианты, и маленькие книжки о животных и птицах.
Радость узнавания, словно я вернулся в родной дом, где сохранились книги (наши-то – пропали), тепло этого дома и рук Шуркиного отца, добрейшего Сергея Владимировича, погладившего меня по голове, я ощущаю и по сей день, как по сей день дружу с Шуркой, давно уже Александром Сергеевичем Гердом, видным лингвистом, главным редактором Академического словаря современного русского литературного языка, зав. кафедрой математической, прикладной и структурной лингвистики филологического факультета Санкт-Петербургского университета, одним из ведущих в стране специалистов в области этнолингвистики и исторической географии, организовавшим на своем веку десятки диалектологических, топонимических и фольклорных экспедиций… Для меня, однако, он как был Шурка, так и остался, а я для него – Лешка…
А началась наша дружба с книг, и тех, что мы высвобождали из руин, и тех, что я прочитал по рекомендации Сергея Владимировича Герда, сделавшего для меня не меньше, чем мои школьные учителя и университетские педагоги. Он познакомил меня в детские восприимчивые годы с теми, кто сформировал его ум и душу – Чарлзом Дарвиным и Чарлзом Диккенсом, великими островитянами, открывшими мне таинственный, загадочный, прекрасный мир природы и жестокий, полный опасностей мир людей, подкарауливающих на каждом шагу маленького человека в начале жизни.
В отличие от мягкого, улыбчивого Сергея Владимировича (он плохо слышал из-за перенесенной в молодости болезни и поэтому наклонялся близко к собеседнику, приставляя ладонь к уху) его жена Ольга Арсеньевна, дочь профессора Арсения Петровича Кадлубовского, специалиста по древнерусской литературе, была энергичной, темпераментной, властной, но доброй, как Сергей Владимирович. Она хорошо вела дом – в этом-то я разбирался – и библиотеку, о чем я узнал позднее, от гидробиологов, учениц Герда. В их доме вечно толкались ребята из нашего класса – Петька Тихов, Валька Максимов, Валька Ильин, Алька Герасев, Валька Матлах, и всех она привечала и непременно интересовалась, какие книги мы читаем. Мое увлечение Оливером Твистом и Дэвидом Копперфилдом, романами Стивенсона, Вальтера Скотта, Марка Твена, приключенческими книгами Майн Рида, Фенимора Купера она одобряла, а вот «Путешествие на корабле “Бигль”» и другие натуралистические книги Дарвина были, на ее взгляд, трудны и скучны для школяра десяти-одиннадцати лет, но тут я ориентировался на Сергея Владимировича; он почему-то полагал, что из меня может выйти хороший биолог, тем более что к пятьдесят четвертому была отменена сталинская епитимья на генетику и можно было всерьез заниматься цитологией, молекулярной биологией…
Ко времени нашего поступления в Ленинградский университет в пятьдесят четвертом семья профессора Герда, ставшего проректором Герценовского пединститута, уже лет пять жила в Ленинграде. Связи мы не теряли, и на зимние каникулы по приглашению Оли и Сережи, как Шурка звал своих родителей, в шестом классе, в январе пятидесятого я приезжал в Ленинград, жил в их большой служебной квартире на Мойке, и каждый день неутомимая Ольга Арсеньевна таскала сына и меня по музеям, театрам, концертным залам. Балет в Кировском театре на тринадцатилетнего провинциала не произвел сильного впечатления, а вот Николай Симонов – Федор Протасов в толстовском «Живом трупе» меня потряс. В буквальном смысле: меня трясло, как в лихорадке, я не мог заснуть всю ночь, как три года назад, когда прочитал гоголевского «Вия». Я видел немало драматических спектаклей в Москве, Астрахани, Петрозаводске, сам играл на сцене русского драматического театра, был в восторге от пения моего любимого баса солиста Большого Максима Дормидонтовича Михайлова (кричал ему, выскочив к рампе на его гастролях в Петрозаводске: «Вдоль по Питерской…», пожалуйста, «Вдоль по Питерской…» – и великий певец уважил мою просьбу), от того, как читает стихи Василий Качалов из МХАТа, непревзойденный Барон в «На дне», как играют петрозаводские корифеи сцены Варвара Сошальская, Петр Чаплыгин, Михаил Смирнов. Но всё виденное померкло, когда на зрительный зал, на меня, вдавленного в кресло, обрушилась миллионновольтная волна воли («Не свобода, а воля… двенадцатый век…»), страдания, тоски по настоящей, нефальшивой жизни, где правят не корысть и подлость, а любовь – и это неслыханное, невиданное чудотворство, явленное гениальным русским трагиком (потом, учась в университете вместе с Наташей Лебзак, дочерью Ольги Лебзак, Маши в «Живом трупе», я видел этот спектакль еще тринадцать раз), с которым я имел счастье в середине шестидесятых провести в Петрозаводске целый день и написать много лет спустя портрет Симонова «Стыд, очищающий душу» – это чудо подарил мне не только Николай Константинович Симонов, но и Ольга Арсеньевна, жена Сергея Владимировича, мама моего первого друга Александра Герда.
Как становятся друзьями, такими, чтобы на всю жизнь?..
Друг – это другой. Другой ты. У французского философа Франсуа Федье, автора трактата-поэмы о метафизике дружбы «Голос друга», высказана удивительная догадка о зарождении этого чувства, соединяющего души нерасторжимее, неразделимее, чем любовь. «И этот другой всегда совершенно уникален: он друг, каждый раз единственный. Даже если возможно иметь нескольких друзей, дружба в действительности проживается только между двумя… Он не химеричен, этот опыт: в один прекрасный день моей жизни я услышал, как друг сказал мне: «Друзья были друзьями прежде, чем впервые встретились».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.