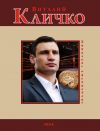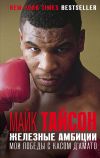Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 53 страниц)
Как не хватает сегодняшним лыжникам этого бушующего огня в крови, мятежного, разинско-пугачевского начала! Да разве только лыжникам, разве только людям спорта?..
А может быть, все ж не рабы?..2010
В том же восьмидесятом, олимпийском, году, когда издательство «Карелия» напечатало «Тяжелые крылья», открывающиеся повестью о Терентьеве, мой друг ленинградский поэт Александр Шарымов написал стихотворение «Русский бунт», через четверть века увидевшее свет в его посмертной книге «Стихи и комментарии». Там были такие строки, вечнозеленые в нашем отечестве:
Бунтуют и венгры, и чехи,
И Герека – в дупу долой!
Россия же только прорехи
Латает ракетной иглой.
У моря балтийского ляхи
Устроили гранд-перекур –
А мы колупаем в рубахе,
Голландских налопавшись кур…
Взбунтуются где-то на Висле –
А отзвуки в Чили слышны.
А мы, кореша, подзакисли –
Аж рвет от натуги штаны.
Ну что ж это, в самом-то деле?
В башке – лишь сивушный туман…
Возьми меня в други, Емеля,
Возьми меня в струги, Степан!
Но кто так придумал толково,
Какой езуит-паразит? –
С пластинки поет Пугачева,
От Разина пивом разит.
Какими измерить словами
Извивы российской судьбы?
Братва, не рабы ли мы с вами?
А может быть, все ж не рабы?..
Гранд-перекур устроили в первый месяц новой зимы на Днепре наши украинские братья, и мы в Питере, Москве, Екатеринбурге, Петрозаводске каждый свой декабрьский день 2013‑го начинаем с новостей с Майдана незалежности из Киева, где ни холод, ни ветер суровой зимы, ни «Беркут» и прочие силовики не могут остудить пыл тех, кто защищает и свою, и нашу свободу…
То ль дело Киев! Что за край!
Валятся сами в рот галушки,
Вином – хоть пару поддавай,
А молодицы-молодушки!
Это уже не «Русский бунт» Шарымова, а «Гусар» Пушкина. Написан на темы украинских народных сказок в 1833‑м, ровно сто восемьдесят лет тому назад.
Пушкинский гусар в восторге от Киева, от Украины, мы, всей душой переживающие за борьбу наших братьев, тревожимся – и за них, и за нас. Кто победит в неравном споре за Украину – выстроенная в России вертикаль власти силовиков или «вертикаль подъема души» (М. М. Бахтин)?.. Сумеем ли мы в России и украинцы в Украине преодолеть диктат государства и стать открытым обществом?..
Вопросов больше, чем ответов. Тревожно на душе…
2013
Глагол, которому названия нет
Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить – это цельно, слитно, неуничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет.
Юрий Трифонов
Помните последнюю страницу «Дома на набережной»? Восьмидесятишестилетний Ганчук и автор возвращаются на такси с кладбища, и когда машина поворачивает туннелем на Садовую, старик просит шофера ехать побыстрее – боится пропустить какую-то передачу по телевизору. Автор не может оторвать взгляда от проносящейся за окнами такси Москвы: «Зажгли огни, разгорался вечер, нескончаемо тянулся город, который я так любил, так помнил, так знал и старался понять…»
Помнил и старался понять…
«Он (главный герой повествования – “никакой” Вадим Глебов. – А. С.) старался не помнить: то, что не помнилось, перестало существовать, никогда не было».
Не помнить – удобно, комфортно, так легче жить. Но помнить – необходимо. «Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего, – пишет Марк Блок в “Апологии истории”. – Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего». Как говорит герой «Дома» Антон Овчинников, гениальный мальчик, погибший на войне: «Все важно для истории».
Юрий Трифонов ощущал людскую боль, как мало кто из профессиональных эскулапов. Даром сострадания человеку были наделены все великие русские писатели – Гоголь, Толстой, Дос тоевский, Чехов. Думаю, их наследнику Трифонову была близка мысль автора «Идиота» и «Братьев Карамазовых», что сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества.
Всего человечества и во все времена. Откройте памятник средневековой японской литературы XIV века «Записки от скуки» Кэнкохоси: «Если подумать спокойно, невозможно побороть в себе любовь ко всему безвозвратно ушедшему».
Ушедшему не значит переставшему существовать, никогда не бывшему, как утверждает мелкий бес трифоновского «Дома» Глебов. От Мефистофеля до бесов Достоевского и Федора Сологуба, до сегодняшних террористов и отечественных гонителей несогласных с держимордовскими порядками, водораздел между чертями и нормальными людьми, людьми чести и совести, проходил по отношению к человеку и главной ценности человеческого общежития – свободе.
Вспомним «Фауста», последний монолог героя Гете (цитирую по переводу Н. Холодковского):
…Жизни годы
Прошли недаром; ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Кто каждый день за них идет на бой!
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя, и муж, и старец пусть ведет,
Чтоб я увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ!
Тогда сказал бы я: мгновенье!
Прекрасно ты, продлись, постой!
И не смело б веков теченье
Следа, оставленного мной!
В предчувствии минуты дивной той
Я высший миг теперь вкушаю свой.
Если бы гениальный немецкий поэт жил во второй половине двадцатого века в России, как герой этого очерка, он мог бы закончить своего «Фауста» словами из одного из спортивных репортажей Трифонова: «…И нет предела человеку и тому, что человек может».
У обоих писателей было высокое представление о человеке, его способности любить, помнить, знать и понимать. Действительный тайный советник, первый министр саксен-веймарского герцога Карла-Августа славит человека устами ангелов: «Пламень священный! / Кто им объят – / Жизни блаженной / С добрыми рад. / К славе господней, / К небу скорей: / Воздух свободней, / Духу вольней!» Хор ангелов, как следует из ремарки автора трагедии, поднимается к небу, унося бессмертную часть Фауста. А дьявол, адским пламенем прожженный, остается с носом, и его сентенции, уравнивающие «прошло» и «не было», звучат в финале пошло и жалко:
Прошло… что это значит? Все равно,
Как если б вовсе не было оно –
Вертелось лишь в глазах, как будто было!
Нет, вечное Ничто одно мне мило!
И Глебову одно вечное Ничто мило. О сытом и надменном беспамятстве Глебова, искреннего в оправдании собственной подлости, хорошо написал Александр Демидов в очерке «Минувшее», посвященном спектаклю Таганки по повести «Дом на набережной». В моем трифоновском досье сохранились шесть листов из июльского номера журнала «Театр» за 1981 год с демидовским очерком. Писатель уже не мог прочитать его: он умер 28 марта того же года на пятьдесят шестом году жизни.
В досье и программка того спектакля; в сделанном по эскизу художника Давида Боровского бумажном свитке три серые большие буквы «ДОМ» изображают силуэт дома на Берсеневской набережной, напротив Кремля. В доме на набережной прошло детство будущего писателя, сына репрессированного в тридцать восьмом году донского казака, одного из организаторов красной гвардии в Петрограде, члена Реввоенсовета ряда армий и фронтов в гражданскую войну Валентина Андреевича Трифонова и Евгении Абрамовны Лурье, агронома Наркомзема. Через полгода после ареста (и расстрела) отца арестовали и мать как «члена семьи врага народа». Бабушка по материнской линии, старая революционерка Татьяна Александровна Словатинская усыновила двенадцатилетнего Юру, удочерила его десятилетнюю сестру Таню и вместе с ними была выселена из элитного дома на набережной на окраину Москвы.
Критик Игорь Золотусский полагал, что первым в нашей литературе тему «шестидесятников» поднял Юрий Трифонов: «Облик этого поколения нельзя понять, не взяв в расчет их отношения с отцами, с теми людьми революции, которых описал в “Исчезновении” в минуту их прощания с детьми Юрий Трифонов. Отсюда начинаются их проблемы, их темы, их положение в истории и их вклад. Поколение, пожавшее кровавый опыт отцов, навсегда отвратилось от идеи насилия, которая и по сей день является в глазах многих идеей действия, идеей развития. Этот путь “детьми” был отвергнут».
Может быть, это поколение и отвратилось от идеи насилия, но нетерпение, если вспомнить излюбленное слово Трифонова, назвавшего так свой роман о народовольцах, по-прежнему в горячей крови человечества. С первого месяца нового года мир с тревогой следит за бурлящим Ближним Востоком, за эскалацией насилия в арабских странах, за хроникой необъявленной войны в горах и городах российского Кавказа.
Не стоит переоценивать значение опыта предков для их потомков. К тому же опыт, как заметил Исаак Ньютон, это не то, что происходит с вами, а то, что вы делаете с тем, что происходит с вами. Ужасные, кошмарные, самоубийственные вещи происходят с нами, а мы и в ус не дуем, продолжая решать сложнейшие социальные и духовные проблемы грубо, примитивно, с позиции силы, вместо того чтобы всемерно содействовать прорастанию свободы в обществе и в душе каждого человека, подъему культуры. Не помню кто, но явно не глупый человек сказал: «Там, где начинается культура, там кончается насилие».
Уже смертельно больной Трифонов, откликаясь на просьбу «Нового мира», принял участие в разговоре о Достоевском; статья «Загадка и провидение Достоевского» была получена редакцией за несколько недель до смерти Юрия Валентиновича и опубликована в журнале в конце 1981 года. «Почему гнев и боль Достоевского живы сегодня? – вопрошал Трифонов. – Наше время переломное: жить дальше или погибнуть? Мир вокруг колоссально и чудовищно переменился. Достоевский с его фантазией не мог бы предположить, каковы перемены. Нынешний Кириллов обладает абсолютной способностью взорвать вместе с собой население Земли, чтобы стать богом».
Когда в «Новом мире», но тридцатью годами раньше я прочитал трифоновских «Студентов», то сразу же влюбился в этот текст и его автора. Тогда же, будучи петрозаводским восьмиклассником, написал первую в жизни рецензию на роман.
Сам Юрий Валентинович не любил свое детище, за которое получил Сталинскую премию. В зрелых произведениях он ушел далеко от своих «Студентов». Его первый роман во многом не совершенен, но ощущение свежести – взгляда, языка, молодой страсти – от чтения трифоновских «Студентов» осталось во мне с отрочества. Страсть к спорту, к игре Трифонов пронес через всю жизнь. Никто из наших литераторов так тонко не чувствовал, так глубоко не понимал спорт, как Юрий Трифонов.
Игра, как и любовь, загадочнее, таинственнее всего на свете. «Не надо думать, что в футболе все можно понять и научно объяснить, – писал Трифонов. – В футболе есть вещи необъяснимые, так же как и в нашей любви к нему. Французы говорят: “Я люблю потому, что люблю”».
Я люблю Юрия Трифонова и потому, что он был удивительным, ни на кого не похожим писателем, которого больше всего мучило в процессе работы ощущение правдивости описываемой жизни, ценившего в прозе, наряду с правдивостью, насыщенностью мыслью, вольность и свободу. В своем эссе «Возвращение к “prosus” он напоминал, что латинское прилагательное «prosus», от которого произошло слово проза, означает: вольный, свободный, движущийся прямо.
Я люблю Юрия Трифонова и потому, что он был околдован игрой, особенно футболом, волейболом и шахматами, справедливо полагая, что в спорте, как и в искусстве, побеждает то, что согрето душой…
Я люблю Трифонова и потому, что он самый московский из всех писаталей, а я еще с предвоенных лет ощущаю Москву родным городом: здесь, в самом центре столицы, в Столешниковом переулке жила моя родня по отцу – его мама Александра Георгиевна, его сестра Галина Григорьевна Величко и дочь тети Гали, моя сестра Наташа…
Я люблю Трифонова и потому, что он (читай «Серое небо, мачты и рыжую лошадь» из повести в рассказах «Опрокинутый дом») начал лепетать и делать первые шаги ребенком, многое узнал и почуял впервые в Финляндии, где в двадцатых годах работал торгпредом нашей страны его отец – меня, начавшего жизнь в Карело-Финской республике, часто бывающего сейчас в Хельсинки, Турку, Ювяскюля, Виитасаари и других местах ставшей родной Суоми, охватывает неизъяснимое волнение, когда читаю Юрия Валентиновича о маленьком, полном достоинства финском городе Ювяскюля, о сером небе над заваленными снегом улицами и вертикальными столбами дыма над крышами домов, о том, как он жил с отцом летом двадцать седьмого в Ловисе, на даче, где все было как на их подмосковной даче («бревенчатый дом, дух смолы, некрашеных досок, хвои, песок, солнце и я, млеющий от блаженства и страха на солнцепеке перед бездной окна») – а мы с мамой и бабушкой и моим полуторагодовалым братом, летом пятьдесят первого жили под Петрозаводском на даче в Шуйской Чупе.
Я люблю Юрия Трифонова потому, что люблю.
Как все влюбленные, я, конечно, пристрастен. Но, по-моему, никто из современных отечественных писателей не показал так убедительно могущество времени, безжалостно высвечивающего истинную ценность человека. Каждой своей вещью, может быть, резче всего «Стариком», писатель говорит: прошлое, как и будущее, существует сегодня, история присутствует в каждом сегодняшнем дне, в судьбе каждого человека.
Перед смертью, раздумывая о долгой жизни, старик, участник Гражданской войны Павел Евграфович Летунов судит себя и окружающих: «Не понимают того, что времени не осталось. Никакого времени нет. Если бы меня спросили, что такое старость, я бы сказал: это время, когда времени нет. Потому что живем мы, дураки, неправильно, сорим временем, тратим его попусту, туда-сюда, на то на се, не соображая, какая это изумительная драгоценность, данная нам неспроста, а для того, чтобы мы выполнили что-то, достигли чего-то, а не так, пробулькать жизнь лягушками на болоте… Память назначена нам как негасимый, опаляющий нас самосуд, самоказнь… Но в страданиях памяти есть отрада. Память – это отплата за самое дорогое, что отнимают у человека. Памятью природа расквитывается с нами за смерть. Тут есть и наше бедное бессмертие».
2013
Некоронованный король футбола
Не злите его!В канун проходящего сейчас в Японии и Южной Корее финального турнира мирового футбольного первенства радиостанция «Эхо Москвы» предложила слушателям продолжить фразу тренера московского «Торпедо» и киевско го «Динамо» Виктора Маслова, содержащую рекомендацию, как уберечь свои ворота от Стрельцова. Начиналась рекомендация с частицы «не».
И почти мгновенно, что удивительно – ведь Эдуард Стрельцов перестал играть более тридцати лет назад и двенадцать лет как умер, – Игорь из Москвы, судя по голосу, молодой человек, вы дал правильный ответ: «Не злите Стрельцова».
Маслов знал, что говорил, и хорошо знал того, о ком говорил. Мягкий, добродушный в жизни, Стрелец, как все его звали, превращался в карающую десницу рока, когда сторожа преступали черту дозволенного и начинали лупить его по ногам…
Не раз был свидетелем того, как разозли ли Стрельцова и что из этого вышло. Самым – из моих личных болельщицких впечатлений – показательным в этом отношении был четвертьфинальный матч Кубка СССР 1957‑го в Лужниках между «Торпедо» и тбилисским «Динамо». Грузинский центральный за щитник Дзяпшипа (был он старше Эдика лет на десять), катастрофически не успевая за быстроногим подопечным, косил его, как траву июльским утром, стаскивал с форварда футболку, проверял на прочность своим локтем ребра визави – весь набор антифутбола был пущен в ход, чтобы сдержать лобастого широкоплечего юнца. Стрельцов какое-то время терпел, не огрызался, только показывал рукой Кузьме (Валентину Иванову) направление ожидаемо го им паса. Мог бы и не показывать: Иванов чувствовал Стрельцова шестым чувством, и стоило Эдику, перепрыгнув через частокол ног защитников, вырвав из их рук футболку, стряхнув с себя висевших на нем сторожей, набрать скорость, как Кузьма, находившийся спиной к фронту атаки, к маневрирующему партнеру-собрату, выдавал ему длинную, метров на со рок передачу на ход, и он, выкатившись на ударную позицию, оглушительно ухал из главного калибра; а в другой раз озорничал, как Бобров, и обводил всю тбилисскую оборону, включая «воротчика», и вкатывался с приклеенным к бутсе мячом в сетку… Стадион, помню, замирал, ахал, хохотал – веселится и ликует весь народ, как в одной стародавней песне поется…
6:1 – горели на табло цифры разгрома; разозленный Эдик с модным коком на голове (и кок, и имя были, как нарочно, словно взяты из недавних фельетонов о стилягах и очень кстати при шлись фельетонистам-борзописцам из центральных газет, когда они начали травлю «звезды», обвинив ее в «звездной болезни») забил пять мячей, хотя ощущение было такое, что он может забить сколько хочет, если только сильно захочет. Валентин Кузьмич Иванов, которого Эдуард Анатольевич всю жизнь называл «Кузьма», подтвердил впоследствии мое дилетантское предположение в первом в нашей подцензурной печати правдивом портрете Стрельцова на страницах журнала «Юность» (№ 5 за 1973 год): «Таких футболистов, как наш Эдуард Стрельцов, я больше не видел. И, думаю, никогда не увижу. Ему все с избытком вручила природа, будто задалась целью вылепить идеального футболиста. И не просто футболиста, а центрфорварда… Меня никогда не покидало ка кое-то мистическое чувство, что Стрельцов может сделать на поле все, что захочет. Захочет – только очень захочет – забить гол, и забьет. И никто ему не помешает».
Делать все, что захочешь, в стране, где привыкли все делать по приказу, само по себе было крамолой и не могло кончиться добром, тем более что Эдуард Стрельцов, как отмечал его друг и партнер, был сильнее всех на футбольном поле и слабее всех за его пределами – ну, может, и не слабее всех, но противостоять соблазнам, кои в избытке рассыпала жизнь на пути молодого, талантливого, известного, про славленного человека, не мог. К тому же, будучи от природы беспредельно добрым и сильным, он всегда вступался за своих друзей (за того же Кузьму) и часто страдал не за себя, а «за того парня», как, скорее всего, было и в деле, надолго лишившем его свободы.
К «делу Стрельцова» мы еще вернемся, а сейчас, когда очерк о футбольном гении пусть не очень отдаленного, но все-таки прошлого, приходится писать урывками, отрываясь от телевизора, где бушует футбольное настоящее, когда в глазах рябит от многоцветья игровых форм и стилей, самое время сделать отступление и поговорить не о некоронованном короле, а о Его Величестве Короле спорта – Футболе.
Страсть к риску«Двадцатый век принес игру – футбол», – написал поэт, современник Э. Стрельцова и В. Иванова, и эта игра пришлась веку и миру ко двору. Еще и потому пришлась ко двору, что всяк сущий в ней язык мог в этой «всего-навсего» игре в мяч выразить свой, лишь этому народу свойственный способ чувствовать, мыслить, жить.
Два великих тренера – изобретатель «тотального футбола» Ринус Михелс (сборная Голландии под его началом в 74‑м и 78‑м годах прошлого века брала «серебро» мировых чемпионатов, но игру, на взгляд многих специалистов, демонстрировала более яркую, чем чемпионы – немцы и аргентинцы) и наставник чем пионов мира-1978, сборной Аргентины Луис Менотти – связали успехи своих команд с верностью национальному характеру и образу жизни. «Мы играли в тот футбол, который нравился и нам, и нашим зрителям, – говорит Михелс. – Риск в крови голландцев, риск и великое упорство. Это отличало и нашу игру». Жить под вечной угрозой затопления, отгородившись от моря стеной дамб, но не отгораживаясь от мира стеной наподобие Берлинской или Китайской, принимая в свое лоно шоколадных с черными косичками сынов с далеких тропических ост ровов, – для всего этого нужна и страсть к риску, и способность терпеть тяготы повседневного труда, и высокая степень терпимо сти, толерантности в обществе.
Страсть – ключевое слово в спорте, в футболе. Один литовский режис сер, жалуясь на стагнацию современного драматического театра, заметил, что попытки выехать в театре на голом профессионализме, без истинной страсти, обречены на провал. «Страсть же, – меланхолично отметил режиссер, – осталась только в спорте».
Да, страсти в спорте еще кипят. Кипяток тем круче, чем больше нолей в контрактах между игроком и клубом, между фирмой-производителем чего-либо и рекламирующим ее продукцию спортсменом. Но это из держки рыночных времен, времен упадка и разложения империй и возникновения новых, транснациональных союзов и сообществ – так, кстати, было и на закате эры агона (агоном у древних эллинов назывались состязания: и мусические – среди музыкантов, поэтов, актеров, и атлетические) и его перехода в агонию…
Правда, как-то не верится, что мы присутствуем при агонии, когда с расстояния в десять тысяч километров, отделяющих Комарово, где я пишу эти строки, от Японии и Южной Кореи, и трех метров от моих усиленных линзами глаз до экрана телевизора, наблюдаешь
сверкание, кипение, смешение всех красок палитры, всех цветов радуги, коими люди с незапамятных времен пользуются для обозначения разных стран, государств, народов и рас, в глубине души отдавая себе отчет в том, что есть только одна раса – человечество.
Тем и славен футбол, собирающий на мировые ристалища посланцев всех рас, десятков национальностей, что он, при всей коммерциализации, при присущем ему иногда угаре национализма, ксенофобской дебильности, обладает способностью самоочищения от этих зловредных ядов и в роскошном, праздничном одеянии мировых первенств работает на объединение людей в одну человеческую расу лучше, чем ООН, ЮНЕСКО и другие всемирные организации.
Как, однако, заразительна сама тема стра сти к футболу, футбола как страсти! Она увела меня в сторону от предмета разговора, от того, что Луис Менотти, аргентинец до мозга костей, испанский гранд в костюмах от лучших парижских кутюрье, живущий, как все испанцы-аргентинцы, с отчаянием в душе, потоянно ощущающей близость смерти, и с солнцем в крови, сказал, что главное в футболе – страсть, страсть и нежность, как в танго, что аргентинцы играют в футбол, как и живут, не очень напрягаясь, что успехи пришли к ним тогда, когда они сумели свою страсть, любовь к приключениям сочетать с порядком, с игровой тактической дисциплиной…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.