Текст книги "История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции"
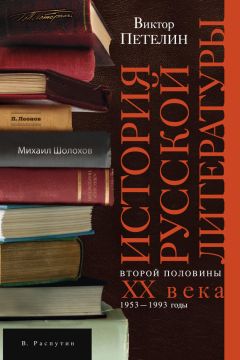
Автор книги: Виктор Петелин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 45 (всего у книги 92 страниц)
Среди глав, посвящённых наиболее запомнившимся автору встречам, хочется отметить главу об «Утешительном попе», о «Мужицком царе», о «Фрейлине трёх императриц», победившей сердца своих соузниц на Заячьем острове» (Ширяев Б. Неугасимая лампада. Репринтное воспроизведение с издания 1954 года. М., 1991. С. 8).
Книгу «Неугасимая лампада» Б. Ширяев начал писать ещё на Соловках в 1925 году, а закончил на Капри в 1950-м, сначала он был православным христианином, потом католиком: «Он писал о слезах и крови, о страданиях и смерти, а потом уничтожал написанное. Попав в Среднюю Азию в ссылку, он снова принялся писать и потом зарывал написанное в горячий песок… Соловецкая каторга была для него, как и для каждого, прошедшего через неё, «страшной, зияющей ямой, полной крови, растерзанных тел, раздавленных сердец… над навсегда покинутым святым островом только смерть простирала свои чёрные крылья» (Издательство имени Чехова).
Пребывание на Соловках началось с кошмарной сцены: полковник Генерального штаба Даллер по перекличке начальника лагеря идёт к будке, а там сидит с карабином Ногтев, следует выстрел, полковник убит, его оттаскивают, обирают, вызывают следущего, но выстрела нет:
«Вся Россия жила под страхом такой же бессмысленной на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в Ногтеве миновала, он сам был расстрелян, и одним пунктом обвинения были эти самочинные расстрелы.
Через 15 лет так же расплатился за свою кровавую работу всесоюзный палач Ягода. Вслед за ним – Ежов.
Участь «мавров, делающих своё дело» в СССР предрешена» (Там же. С. 36—37).
В первые годы на Соловки ссылали тех, у кого не было так называемых судебных разбирательств, ни суда, ни адвокатов, каждого судили «тройки» по своему усмотрению, был в Белой армии – виновен, но с такими быстро управились, посадили всех на посудину и потопили. Ногтев во время Гражданской войны был помощником знаменитого харьковского чекиста Саенко, опыта в жестокостях ему не занимать. Но с приездом на Соловки актёра Сергея Арманова жизнь стала меняться, многие увлеклись театром, несмотря на двенадцатичасовой тяжёлый труд. Вскоре после приезда С. Арманова состоялось первое представление Соловецкого театра драмы и комедии.
Однажды в сентябре, возвращаясь из командировки, Б. Ширяев заблудился в лесу и набрёл на луч света, идущий из землянки. Он заглянул во тьму и увидел, что горит лампада, на коленях стоит монах, а рядом с ним раскрытый гроб. До рассвета Б. Ширяев стоял у землянки, «не в силах уйти, оторваться от бледных лучей Неугасимой лампады пред ликом Спаса…
Я думал… нет… верил, знал, что, пока светит это бледное пламя Неугасимой, пока озарён хоть одним её слабым лучом скорбный лик Искупителя людского греха, жив и Дух Руси – многогрешной, заблудшейся, смрадной, кровавой… кровью омытой, крещённой ею, покаянной, прощённой и грядущей к воскресению Преображенной Китежской Руси» (Там же. С. 133). И тут же задаёт самому себе вопрос: почему он так много страниц уделяет театру? На смену Арманову приходит известный комик Борин, появляется известный беллетрист и актёр Глубоковский, выходит газета, библиотека насчитывает 30 тысяч книг. Создан симфонический и духовой оркестр. Все играют, поют, сочиняют. И Б. Ширяев вспомнил бессмертного «Дон Кихота», созданного в тюрьме Сервантесом. «Казалось, что угасла приглушённой Неугасимая лампада – душа России», но только казалось.
В книге появляются Глеб Бокий, заместитель Менжинского, он «был убийцей многих тысяч», и Натан Ааронович Френкель, «оформитель и главный конструктор системы концлагерей победившего социализма», он «может смело претендовать на звание убийцы многих миллионов» (Там же. С. 137). Натан Френкель во время революции и Гражданской войны «образовал трест контрабанды с размахом поистине американским», «пограничная охрана, уголовный розыск, суды и даже само ГПУ было закуплено. Френкель был коммерсантом действительно большого стиля и человеком своей эпохи в истинном её значении» (Там же. С. 139). Но одновременно с Френкелем действовал член коллегии ОГПУ Дерибас: «Очень маленького роста, почти карлик, с огромными оттопыренными ушами, шелушащейся, как у змеи, кожей и отталкивающими чертами лица, он вызывал среди окружавших чувство отвращения, гадливости, смешанной со страхом, какое испытывают обыкновенно при взгляде на паука, жабу, ехидну… Он знал это и не старался замаскировать своего уродства, но, наоборот, бравировал, подчёркивая его крайней неопрятностью, бесстыдством, грубостью и презрением к примитивным правилам приличия. Столь же уродлива была и его психика… Дерибас был более чем обычным садистом: он был каким-то концентратом зла всех видов… Он ненавидел всё и всех… Он никогда не пропускал возможности причинить боль или иной вред каждому, даже бывшему в его лагере» (Там же. С. 139—140).
Френкель при всём своём богатстве не помогал еврейской общине, а Дерибас этим воспользовался, собрав против Френкеля обличительные документы. Из Москвы прибыл отряд чекистов и арестовал Френкеля. Смертный приговор заменили концлагерем. И здесь он раскрылся как блистательный организатор, Соловецкий лагерь показался ему слишком малым полем для деятельности. Требовались рабочие. Сначала закрылась газета, остановились литературная и театральная работа. Но Б. Ширяев по-прежнему копил материал для будущей книги: интересны были рассказы Нилыча о начале революции в селе Уренгой. Фрол утвердил себя в роли начальника комбеда, обложил богатеев непосильным бременем, а когда пришла Красная армия, начался настоящий грабёж всего населения. Появляются отец Никодим, Владимир Шкловский, брат «литератора-коммуниста Виктора Шкловского», появляются другие персонажи – Василий Иванович, «русский интеллигент в полном и лучшем значении этого слова» (Там же. С. 266), шпана прозвала его – «Василёк – Святая душа», баронесса, аристократка, фрейлина трёх императриц, автор не называет её фамилию, она слишком популярна была в России, – баронесса пошла старшей медсестрой в тифозный барак, заразилась и скончалась от тифа, поручик Давиденко, генерал Краснов, Тарусский, Зыков…
«Я не художник и не писатель. Мне не дано рождать образов в тайниках своего духа, сплетать слова в душистые цветистые венки. Я умею только видеть, слышать и копить в памяти слышанное и виденное. Претворят это скопленное те, кто вступит в жизнь позже.
Люди, о которых я рассказал, прошли перед моими глазами, их слова запали мне в сознание. Большая часть этих людей уже ушла из жизни, иные ещё в ней. Ушедшие оставили след; одни – тёмный, смрадный и кровавый; другие – ясный, светлый, радушный, как крылья серафима» (Там же. С. 399).
Значение всей «лагерной литературы» – в этих искренних и честных словах.
Олег Васильевич Волков (наст. фам. Осугин; 21 января (8 января) 1900 – 10 февраля 1996) родился в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Отец, Василий Александрович, директор правления Русско-Балтийских заводов, мать, Александра Аркадьевна, по свидетельству биографов, из рода Лазаревых. О. Волков, правнук знаменитого адмирала М.П. Лазарева, главнокомандующего Черноморским флотом, получил хорошее домашнее воспитание, а затем дополнял своё образование в Тенишевском училище, где обучали не только наукам, но и ремеслу, был одноклассником В. Набокова. Превосходно знал языки, особенно французский. В 1928 году был арестован и по 1955 год находился в лагерях и ссылке. В 1957 году по рекомендации С.В. Михалкова был принят в Союз писателей и проявил себя как яркий реалист-художник и публицист, написавший статьи и книги в защиту погибающей природы. По свидетельству биографов, много переводил, в его переводах вышли книги Бальзака, Золя, Боннара, Ренара. В 60-х годах написал автобиографическую книгу «Погружение во тьму», отдал её в журнал «Новый мир», когда повесть А. Солженицына уже была напечатана, но А. Твардовский эту книгу отложил «до лучших времён», и впервые она вышла в Париже в 1987 году.
Начал свою литературную деятельность сразу после освобождения из лагеря, в 1951 году вышла первая книга «Молодые охотники», затем в 1959 году – повесть «В тихом краю», в 1963 году – «Клад Кудеяра», в 1970 году – «Родная моя Россия», в 1974 году – «Тут граду быть…», в 1976 году – «Чур, заповедано!», в 1978-м – «В конце тропы»…
Нелегко складывалась его судьба, писательская и человеческая, но всегда бодрый, лёгкий, высокий, подтянутый, несмотря на свой почтенный возраст, брызжущий энергией и неиссякаемым юмором, он поражал, бывая в издательствах, своей бесстрашной готовностью работать и работать: словно все эти тяжёлые для него годы он всего лишь накапливал энергию, чтобы сейчас, когда пришло его время, безоглядно её тратить. О. Волков тратил энергию только на творчество, всё подчиняя этой безудержной страсти, копившейся в нём столь долго. Появились повести, рассказы, очерки, журнальные и газетные выступления. А зачинщиком скольких дискуссий он был всё это время! После многих его выступлений в печати принимались государственные решения, направленные на искоренение тех ошибок и недостатков, о которых говорилось в статьях и очерках Олега Волкова. И сколько он сберёг этими выступлениями – памятников старины, лесов, озеро Байкал и многое другое. Некоторые его статьи и очерки порой долго лежали в редакциях журналов и газет, но потом, напечатанные, вызывали дискуссии по затронутым вопросам, бесконечные споры и разговоры в писательских и читательских кулуарах. А государственным служащим, занимавшим высокие должности, приходилось отвечать перед народом за те «грехи», которые они допускали в своей повседневной деятельности, подчас бесконтрольной.
Но Олег Волков – не только страстный, глубокий и острый публицист и очеркист: в повести «В тихом краю» он прежде всего тонкий и вдумчивый художник, умеющий создавать живые человеческие характеры. Неторопливо, обстоятельно вводит своих читателей Олег Волков в собственный мир, созданный его художественным словом. Вот в повести «В тихом краю» Олег Волков воспроизводит свою дворянскую жизнь, Авдотья Семёновна, а три года назад бывшая для всех телятницей Дуней, осматривая себя, дивилась тому, как быстро она располнела, «уже в грудях жмёт», «кнопки сами отскакивают», а в это время Александр Александрович, младший сын Балинских, стоя у рояля, наигрывал одной рукой отдельные музыкальные фразы. А потом насмешливо объяснил своей жене, что её предки постоянно занимались молотьбой, стиркой, «рожали с серпом в руках». И вскоре мы узнаём, что Александр Александрович – блестящий выпускник консерватории, мечтал написать виртуозное музыкальное произведение, готовился к концертам, а потом пошла рюмка за рюмкой, отселили его из богатого дома в домик из трёх спален, где пытался играть и писать, давал уроки музыки, но тоже разочаровался. И как-то, возвращаясь домой во хмелю, заснул, а проснулся у Дуни в пристройке телятника с котлом. Он бы ушёл к себе, но Дуня была «цветущей стройной девушкой с маленькими жёсткими, но красивыми руками, не умей это простодушное большеглазое создание так мило поглядывать, поводить плечами или откидывать голову, словно подставляя лицо для поцелуя. Словом, ушёл бы, не будь всего этого очарования» (Волков О. В тихом краю: Повесть и рассказы. М., 1976. С. 29). Всё это происходит до Первой мировой войны. Рассказчик, юноша, вспоминает о своих близких родственниках, он очень любил ходить с Александром Александровичем на охоту, внимательно наблюдал за жизнью взрослых, видел, как приехал в имение Вольский, как много наговорил он о своей революционной деятельности, опасаясь, что за ним следят; девятнадцатилетняя Лиля, дочь заслуженного адмирала, мечтавшая о революции как о романтической тайне, увлеклась этим Вольским, призналась, что мечтает участвовать в революции. События так и мелькали в повести: Первая мировая война, Февральская революция, Октябрьская, когда большевики взяли власть в свои руки…
Чуть раньше Александр Александрович, только что восхищавшийся концертом Рахманинова, одумался, ведь Рахманинов всего лишь двумя годами раньше окончил консерваторию, а гляди, что сделал! Из дома Александр Александрович сбежал, предчувствуя огромные перемены в жизни, а брат ничего не понимает, «брат со своим оптимизмом не видит, не хочет видеть». Дуню он заберёт, как устроится на новом месте, «там сейчас переполох, ведь я выдержал – никому не сказал, куда еду. Боялся, что отговорят». «На лице его возникла прежняя, добрая и застенчивая улыбка, такая миролюбивая и сочувственная – та самая, за которую, я уверен, моего несчастного дядю любили все, кто его сколько-нибудь близко знал… Дядя Саша уже больше никогда не вернулся, он как в воду канул. Много спустя прошёл слух, что его зарезали и ограбили в селе на большой дороге. Но в те смутные времена проверить это было уже некому» (Там же. С. 265—266). Вскоре усадьба опустела, Пётр Александрович Балинский вызвал доверенных лиц, они, в том числе и наш рассказчик, смазали охотничье и военное оружие и спрятали в надежде, что вскоре всё успокоится и начнётся обычная усадебная жизнь. Но началась новая революция.
Художник прожил большую жизнь, и, работая и вспоминая её, он словно перебирает в памяти увиденное и запомнившиеся встречи. Удивительнее всего, что в рассказах и повестях Олега Волкова почти нет плохих людей. Почему-то его память удерживает только благородные человеческие личности, замечательные характеры людей, с которыми некогда столкнула, пусть и не надолго, его жизнь. Один писатель запоминает одно, другой – другое. Один запоминает то, что его покоробило, а Олег Волков то, что его возвысило, порадовало, а может быть, вызвало сожаление. Поражает рассказ Олега Волкова «Таиска». Сколько уж таких сюжетов появлялось в литературе, сколько уж женщинам не советовали влюбляться в женатого человека – пройдёт миг, он вспомнит о жене, о своей семье, уедет к ней. Вот Таиска не послушалась здравого смысла, связала свою судьбу с геологом. И настолько точно и психологически тонко ведёт автор по перипетиям любовных переживаний своих героев, что рассказанному нельзя не поверить. Нет, разум тут был подавлен нахлынувшим потоком чувств, и Таисия осталась одна растить своего сына…
Олега Волкова тянет к тем, кто добр, совестлив, бескорыстен, терпим к иным обычаям, к иным мыслям и мнениям. «Ярцевские далёкие дни» – так называется рассказ о далёких днях, проведённых в глухой сибирской тайге. В подавленном состоянии (на рассказчика обрушились несчастья, выбившие его из привычной колеи) он мог бы озлобиться на весь мир, на людей. А О. Волков создал в этом рассказе замечательный образ хирурга Михаила Васильевича Румянцева, учёного-ботаника Владимира Берга и его любовницы Зульфии Ибрагимовой, которая не решилась поехать вместе со своим любимым в Ленинград: там заболела мать учёного. Он уехал, а она осталась и потом всю жизнь была несчастлива, а он умер в одиночестве. И сколько глубоких раздумий возникает от размышлений об этих судьбах. Писатель не раскрывает душевных глубин своих далёких друзей, но ясно одно: он горько скорбит, что два таких хороших человека не получили от жизни того, что она могла бы им дать.
Превосходен и рассказ «Случай на промысле», написанный тоже как воспоминание о давно прошедших молодых годах, когда автор только начинал свою жизнь в Сибири, познавая её трудности и сложности.
Олега Волкова восхищает готовность человека жертвовать своим временем и покоем ради других людей. Потому-то он так поддерживает легенду ярцевцев о том, что хирург Румянцев был чуть ли не гениальным хирургом, творившим чудеса. А ведь дело-то не в искусстве хирурга, а действительно в безотказном и самоотверженном служении людям, которые полюбили его за это. Но есть и другие люди, которые думают только о себе, только об удовлетворении своих гнусных страстей. Вот таких Олег Волков яростно ненавидит, хоть и не вводит их самостоятельными фигурами в своё повествование. Особенно яростную войну Олег Волков ведёт против тех, кто своим беспробудным пьянством калечит жизнь других людей. Сколько раз на жизненных дорогах ему приходилось видеть, как пьяница-отец терзает детей своим бесшабашным поведением! Отсюда бедность в доме, неуверенность в будущем, боязнь матерей, что дети пойдут по стопам отца. Гневные слова О. Волков высказал в рассказе «Огненная вода».
С не меньшим интересом читаешь «Очерки Подмосковья», «Деревенские судьбы», «Московские очерки», читаешь их как «записки охотника»: Волков приезжает из года в год в одно и то же место в Волоколамском районе Московской области, чтобы отдохнуть от тяжких писательских трудов – поохотиться. Но какой там отдых писателю, некогда жившему на селе и хорошо знавшему труд хлебороба, то и дело натыкается он на бесхозяйственность, на беспорядки, на нетребовательность со стороны руководителей. И всякий раз пытается выяснить, почему так получается. Почему на приусадебных участках картошечка стоит окученная, выполотая, любо посмотреть, а на колхозном поле что-то чудовищно мрачное виделось ему. Говорят, что пропала любовь к земле. Нет, не пропала, на своём клочке земли люди стараются. Не будет картошки, дети будут голодать. А вот на совхозной земле работают совсем по-другому. И никто ничего с этим поделать не может. А сколько земли пропадает из-за отсутствия дорог, сколько людей застревает на этих раскисших дорогах, которые становятся всё шире и шире, а земли под полезными культурами всё меньше и меньше. Какой чудовищный урон несёт наша земля из-за бесхозяйственного отношения к дорогам.
Нет порядка в лесу, нет егерей, а если есть, то оклады уж очень низкие. Горько сжимается сердце художника при виде заброшенных деревень. «При виде этих поглощаемых травами, навсегда исчезающих следов жизни длинной чреды поколений крестьян меня охватывает чувство обиды за их безвестность: не стало многовековой деревни и напрочь отсеклась память о тысячах русских людей, строивших мою землю. И не найти о них никаких справок, ни самых обрывистых сведений ни в архивах, ни в родословных. Поле и лес поглотили скромные мужицкие усадьбы, время развеяло имена хозяев…» – размышляет много испытавший писатель. Пожалуй, эти очерки напоминают не только «Записки охотника» И. Тургенева, но и очерки Глеба Успенского, столько в них точных расчётов и выкладок: автор подробно, с цифрами в руках, анализирует хозяйственную деятельность некоторых колхозов и совхозов. Эти очерки О. Волкова можно назвать и «Нравы Теряевой слободы». Жестокая и беспощадная правда раскрывается здесь, всему этому веришь, потому что и сам не раз сталкивался с подобными людьми и нравами. Дядя Гриша, с которым подолгу разговаривал писатель, размышляя о бедах крестьянина, нарисовал нелёгкую и даже жёсткую картину: «Оно конечно, вокруг того, как это мужик прежде был хозяином своей земли, а ныне у неё в работниках, можно невесть чего хитрого измыслить и нагородить. Тут большая разница знаешь в чём получилась? Техника мчит да гонит, за ней не поспеваешь. Прежде мужик приступал к делу не торопясь: прикинет, примерит, на солнышко взглянет, а там и начнёт… А нынче всё давай и давай, бегом да вскачь…»
Олег Волков хорошо знал Москву, любил бродить по её старым переулкам и улицам. Много написал статей и очерков о Москве и старых русских городах, о русских архитекторах, о скульпторах, о художниках. О бережении русской старины, о красоте архитектурных памятников, о лесе и земле, о неразрывной связи времён и поколений, о бережливом отношении друг к другу и о многом другом высоком и значительном в сердце русского человека писал Олег Волков в своих книгах. Но главная цель оставалась невысказанной – «Погружение во тьму» повсюду получала отказы. Небольшие отрывки проскальзывали в печать, но глубокая боль от невысказанного печалила душу. Лишь однажды душа оттаяла в ожидании счастливого конца: «Помню день, когда, окрылённый публикацией «Ивана Денисовича», положил на стол Твардовскому свою повесть «Под конём», – вспоминал Олег Волков.
– Ну вот, – сказал, прочтя рукопись, Александр Трифонович, – закончу публикацию Солженицына, напечатаю и вас. Только не сразу, а то обвинят в направлении…
Но оттепель прекратилась раньше, чем ожидал редактор «Нового мира». Он, однако, оставался оптимистом и, возвращая рукопись, обнадёжил меня:
– Видите, я написал на папке «до востребования»: мы к вашей повести вернёмся».
После этого я её не единожды переделывал, изымая оттуда один острый эпизод за другим, менял название, пока не удостоверился окончательно, что никакие лагерные воспоминания напечатаны не будут, если не говорить о верноподданной стряпне Дьяковых и Алдан-Семёновых и прочих ортодоксов. Кремлёвские архонты дали команду считать выдумками и россказнями толки о лагерях, раскулачивании, бессудных казнях, воздвигнутых на костях «стройки коммунизма», – упоминание о них приравнивалось к клевете и враждебной пропаганде» (Волков О. Погружение во тьму. Париж, 1987. С. 440).
Олег Волков был освобождён из мест заключения в апреле 1955 года: «За плечами почти двадцать восемь лет тюрьмы, лагерей, ссылок, отсиженных ни за что. У меня в архиве пять уже ветхих бумажонок со штампами и выцветшими печатями. Я их собрал ценой двухлетних хлопот в Москве. Это по-разному сформулированные справки трибуналов, судов и «особых совещаний» о прекращении дела по обвинению имярек в том-то, по статье такой-то, ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Я собирал их не ради коллекционирования, а для представления в жилищное управление Мосисполкома: чтобы получить квартиру и быть прописанным, надо было привести доказательства, что длительное отсутствие из Москвы было вызвано не вольным бродяжничеством по свету, а занявшими весь период репрессиями» (Там же. С. 435—436).
В самом начале повествования О. Волков описывает мрачное место заключения в Архангельской тюрьме, в которой просидел около года. И молодой человек в двадцать восемь лет, перед которым открывалась блестящая карьера журналиста и переводчика, вдруг понимает, что он оказался в «пылающей бездне», понимает, как «неодолимы силы затопившего мир зла»; «калёным железом выжигаются из обихода понятия любви, сострадания, милосердия – а небеса не разверзлись…» (Там же. С. 8). Вроде бы прав О. Волков, почти всё так и было, но небеса не разверзлись потому, что в русской литературе сохранились и понятия любви, и сострадание, и милосердие, но за живые голоса в литературе нужно было биться и страдать. И такая литература была.
О. Волков рассказывает о своих родителях, о мыслях, которые возникали с началом Февральских событий 1917 года, о том, как приходил к отцу банкир Шклявер, главный акционер и распорядитель Русско-английского банка, и уговаривал отца перевести деньги за границу: «Отрешитесь от иллюзий, дорогой Василий Александрович, – убеждал он его. – Россию я люблю не меньше вашего, хотя вы родились в древнерусском городе, а я в местечке Могилёвской губернии! Она дала мне положение, деньги, дружбу благороднейших русских людей – всё, что у меня есть… Но, мой милый идеалист, той России, какую вы надеетесь увидеть, не будет и через триста лет: народ не способен управлять своей судьбой. Он выучен слушаться только тех, кто присвоит себе право ею распоряжаться, не спрашивая о согласии, кто обходится с ним круто…» (Там же. С. 33—34). Шклявер уже тогда назвал германский Генеральный штаб главным финансистом всех российских преобразований, начиная с Февральских событий.
Но отец не соглашался на бегство из России, считал, что роль «крысы, покидающей обречённый корабль», для русского интеллигента неприемлема. Это и решило судьбу всего семейства Волковых: «Мы русские или нет? Недалёк конец войны. А тогда сам собой устроится порядок. Даже смешным покажется, что из-за каких-то демагогов, вроде Троцкого и Ленина, мы поддались панике. Все эти агитаторы и понятия не имеют о России! Жили себе за границей, высасывая из пальца теории, а русского народа и в глаза не видели. Да все их схемы ещё Достоевский развенчал…» (Там же. С. 35).
Но всё это вскоре рухнуло, к власти пришли «какие-то демагоги» и порядок устроили по-своему. О. Волков перечисляет тех, с кем пришлось увидеться в тюрьме и лагерях. Всех невозможно назвать поимённо, настолько много их было за эти годы, чуть ли не представители различных социальных слоёв: священники, дворяне, крестьяне, рабочие, они были арестованы за попытку высказать собственное мнение. «Вдумываясь в жизнь рядовых советских людей, угадываешь истоки их поведения, бросающего вызов общественным устоям, постоянной раздражённости, резких вспышек по ничтожному поводу, какие частенько наблюдаешь в очередях или при давке на транспорте. Это всё, как и пьянство, коренится в разительном контрасте между тем, что людям сулят и говорят, и тем, что происходит и они видят на самом деле… И если присовокупить ко всему этому шесть десятилетий запрета на собственное мнение, лишение права высказывания, отучившее людей мыслить и поощрявшее лакейскую психологию, то надо ещё подивиться вскормленной вековыми традициями нравственной силе русского народа, не давшей ему одичать окончательно, встать на четвереньки и благодарно захрюкать у корыта со скудным кормом, возле которого его обрекли топтаться…
Словом, нужно мыслящему человеку – гомо сапиенс – пожить в шкуре советского контроля, чтобы понять, какой силы протест исподволь копится в душах против порядков, заставляющих немо и бессильно мириться с ложью и лицемерием, безнаказанно расцветших в обстановке, не допускающей, чтобы прозвучало правдивое слово» (Там же. С. 443).
Конечно, как у всякого талантливого и правдивого произведения, и здесь есть высказывания, с которыми не все читатели согласятся. Трудно понять О. Волкова, когда он прямолинейно заявляет, что «Сталин – злой гений России, растливший сознание народа, присвоивший себе славу и подвиг в войну, похоронивший – навеки! – надежды на духовное возрождение… Сталин лишь продолжил политику и приёмы, перенял принципы (вернее, беспринципность!), завещанные основоположником. Он лишь недрогнувшей рукой расширил и углубил кровавые методы, разработанные Лениным для удержания власти в руках партии» (Там же. С. 434).
Сталин – историческая фигура, сложная и противоречивая, и эти противоречия не только личного порядка, эти противоречия общественно-политические.
Прямолинейна и примитивна мысль О. Волкова: «И кто, подбирая галерею тиранов, не поставит рядом Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина!» (Там же. С. 435).
Понять душевное состояние О. Волкова можно, но сопоставить эти две исторические личности нельзя – карательные органы были многоличностны, во многом действовали самостоятельно, о многом Сталин просто не знал, учитывая его занятость.
Волков О. Избранное, М., 1987.
Волков О. Погружение во тьму. Из пережитого. Париж, 1987.
Юрий Осипович Домбровский (12 мая (19 апреля) 1909 – 29 мая 1978) родился в обеспеченной семье юриста-адвоката. Рано увлекся литературой, учился на Высших литературных курсах Союза писателей. Писал стихи, но первым художественным произведением был роман «Державин» (1937—1938), который был напечатан в Алма-Ате в 1939 году, где Домбровский работал научным сотрудником в музее. Впервые арестовали в 1936 году, потом отпустили, в это время Домбровский написал роман «Державин», первую часть, а продолжение не успел. Второй раз взяли в 1939 году, в третий раз – в 1949 году, в общей сложности он провёл в тюрьмах и лагерях около пятнадцати лет, в 1956 году освобождён за отсутствием состава преступления и продолжал свою литературную деятельность, работая над романом «Обезьяна приходит за своим черепом». Роман-памфлет имел успех. «Роман с интригующим названием «Обезьяна приходит за своим черепом», – писал Ю. Давыдов, – держал за горло с первого абзаца до последнего. Такие главы, как «Рассказ Курта», потрясали почти физически. Однако главное заключалось не в изображении зверств, а в рассмотрении нагло-изворотливой демагогии нацизма, удушения человека в человеке, бесовской практики в мороке лжеучений… Трижды прав писатель Степан Злобин, подпольщик лагерей смерти: страстный философско-этический роман; книга сражается, а не декларирует; умная и талантливая, она нужна всем народам; роман будит тревогу, и не учебную, а боевую» (Домбровский Ю. Смуглая леди: Повесть, роман и три новеллы о Шекспире. М., 1987. С. 5). В «Прологе» Ю. Домбровский рассказывает о журналисте-юристе Гансе Мезонье, который работает в газете и от имени которого ведётся повествование. В мирное время, после войны, он случайно увидел начальника гестапо, который всего лишь пятнадцать лет тому назад командовал отрядом, который преследовал неблагонадёжных людей. Именно он убил профессора Мезонье, отца Ганса, и это журналист хорошо помнил, зная о многочисленных фактах произвола и убийства невинных людей. Но, оказалось, гестаповец не прикидывался другим человеком, он носил свою фамилию, состоялся суд, но министерство юстиции пришло к выводу, что по состоянию здоровья он не может сидеть в тюрьме. И Отто Гарднер открыто заявляет Гансу Мезонье и полицейскому, проверявшему его документы, что его от наказания освободили: «И если меня освободили, то опять-таки потому, что эти же самые авторитетные и высокочтимые круги вдруг решили, что теперь для их безопасности и спокойствия нужно, чтоб я именно гулял по Берлину и Парижу, а не сидел за решёткой» (Там же. С. 184). И Ганс подробнейшим образом рассказывает о том, что происходило в его родном городе пятнадцать лет тому назад, как при фашистской диктатуре христианские мотивы жизни были преданы забвению. Вспомнил Ганс Мезонье беседу Ланэ, Ганки и профессора Мезонье о первых повешенных во время оккупации. Когда отец в знак протеста заговорил о том, что новые антропоиды дерзнули поднять руку на человека, Ланэ спросил: «Профессор, пора бросить разговаривать и клеймить презрением. Слова словами, всё это очень красиво и правильно, но вот если откроется дверь и в столовую войдёт самый настоящий питекантроп и потребует у вас свой череп, который хранится у вас в сейфе, что вы тогда будете делать?» «И дальше вы сказали, – методически продолжал я, – «И вот обезьяна приходит за своим черепом, а три интеллигента сидят и ведут идиотский разговор о Шиллере и Гёте – так чёрт бы подрал, – так сказали вы, – эту дряблую интеллигентскую душонку с её малокровной кожицей!» Но, к сожалению, ни один из интеллигентов, сидящих в зале, вас тогда не послушал, и вы знаете, чем это кончилось. И вот я весь последний год думаю: да полно, стоит ли тот мир, который мы создаём с вами, хотя бы наших покойников?» (Там же. С. 205). Ганс Мезонье не хочет жить в одной стране с гитлеровским палачом, он написал статью, проклиная фашистское отродье, а Ланэ сомневается, надо ли печатать эту статью, ведь министерские чиновники простили его, по состоянию здоровья начальник гестапо Гарднер не может сидеть в тюрьме, хотя может занимать высокий пост в своей стране. Тот же Гарднер во время оккупации сказал профессору Мезонье, ученик которого уже арестован: «Мы живём в такое – уж что поделаешь! – жестокое и несправедливое время, когда великая Германия не может позволить себе роскошь щадить своих врагов из лагеря гуманистов и демократов, и раз я сегодня имею честь разговаривать с вами у вас на квартире, значит, совсем не всё так просто» (Там же. С. 276). Гуманисты и демократы не могли покорно существовать в фашистской Германии, а сопротивлялись, отсюда столько безвинных жертв.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































