Текст книги "История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции"
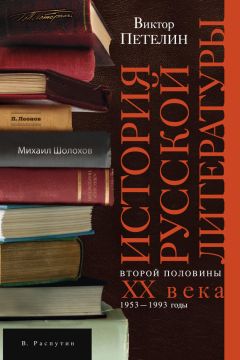
Автор книги: Виктор Петелин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 48 (всего у книги 92 страниц)
Так что Станислав Куняев, принимая участие в дискуссии «Классика и мы», не высказал ничего нового, нет здесь никаких прозрений и откровений, особенно таких, за которые могли бы преследовать опричники из ЦК КПСС – блюстители идеологического порядка в то время. Брешь была уже пробита многочисленными предшественниками Станислава Куняева, в том числе и авторами «Молодой гвардии» и «Советского писателя», где в конце 60-х годов вышли книги Евгения Носова, Василия Белова, Виктора Астафьева…
Нет нужды сейчас говорить о том, прав или не прав оратор. Хочется только сказать, что Станиславу Куняеву не следует делать вид, что, принимая участие в дискуссии, он словно бы выходил на эшафот, понимая чудовищные последствия для своей жизни. Другое дело, что он, выступая, обозначил таким образом переход из одной группы в другую, противоборствующую с выпестовавшей его как поэта, с группой Бориса Слуцкого, Александра Межирова, Евгения Винокурова, с которыми он дружил, о которых он писал, которые его поддерживали в редакциях газет, журналов, в издательствах. И напрасно Станислав Куняев говорит о том, что рабочим секретарём Московской писательской организации он стал «случайно». Нет, в такие «кресла» случайно не попадают… Ясно, что в это «кресло» он попал под давлением той группы, к которой он принадлежал в то время.
Напрасно Станислав Куняев драматизирует реакцию зала на его выступление: «сидящие в полутёмном зале впадают в шок от моих слов и мыслей», «вдруг тишина взрывается рокотом возмущения, а через минуту возгласами отчаянного восторга», «волна ненависти, сменяясь в следующее мгновение тёплой волной восхищения», «еврейка зарыдала после моего жестокого и объективного приговора позиции Багрицкого»… Как очевидец, свидетель этого выступления, сообщаю: выступление было очень скучным, наукообразным, удручающим по своей наивности и банальности. А шестьсот слушателей нетерпеливы, отсюда выкрики, которые Куняеву действительно могли показаться «рокотом возмущения» и «возгласами отчаянного восторга».
Повторяю, Станислав Куняев сделал свой выбор в пользу Русской партии, сознательно «сжёг корабли», дабы уже не отступать. И это действительно вызвало отклики в печати и по «радиоголосам». Только и всего, только этим и можно объяснить негодование его прежних друзей и единомышленников и задумчивое приятие его в лагерь русской партии.
Вспоминаю, как Станислав Куняев приходил в журнал «Молодая гвардия», мы знакомы были с университетских лет, что-то действительно хвалил, с чем-то спорил, но это были 1968—1971 годы, годы яростной борьбы, многие соотечественники искали выбора, и Куняев был среди них. Но книга мемуаров говорит о том, что и он был в стане русских воинов с 1961 года. Это вызывает недоумение у тех, кто не колебался.
Ещё более комично звучат сейчас страницы книги Станислава Куняева о «Метрополе», сборнике литературных сочинений, вышедшем за рубежом и представленном СМИ как выступление организованной оппозиции. Всё это было задумано как политическая акция и блестяще разыграно опытными игроками из ЦК и МК КПСС, предложивших Московской писательской организации обсудить этот сборник.
Станислав Куняев сам описывает обстоятельства появления этого сборника в России, признаёт, что мало кто из русских писателей заинтересовался этим сборником, «просто» брезговали «заниматься этим грязным делом». Но сборник резко осудили «распорядитель фонда Сороса, нынешний патриарх либерально-еврейской интеллигенции Г. Бакланов», «перестройщица Р. Казакова», «будущий министр культуры ельцинского правительства критик Евгений Сидоров», «ныне покойный и забытый В. Амлинский», «пострадавший во время гонений на «космополитов» А.М. Борщаговский», «ныне живущий в Израиле А. Алексин» – «все они страстно, убеждённо, со знанием дела – что самое пикантное, на мой взгляд! – по существу справедливо критиковали альманах…» (Куняев С. Поэзия. Судьба. Россия. Кн. 1. С. 287—288). И так далее… Признаюсь, эти и другие страницы, связанные с повествованием Куняева о «Метрополе», читать было неприятно (конечно, можно бы подобрать более интеллигентное словечко, но это точнее передаёт ощущение от этих страниц).
Станислав Куняев отважно и смело бросился в атаку на метропольцев, обвиняя их в «завуалированных и явных русофобских и сионистских мотивах», написал «Письмо в ЦК КПСС по поводу альманаха «Метрополь» «и пустил своё сочинение по белому свету», конечно, пустил по белу свету небескорыстно: «Я верил: мои действия подвигнут русскую интеллигенцию на решительные шаги. После выступления в конце 1977 года на дискуссии «Классика и мы», когда меня всё-таки не смяли, мне уже было легче рисковать собой» (Там же. С. 289). Куняев признаётся, что он не мог говорить прямо, ему пришлось «использовать обкатанные штампы, в которых основным термином было слово «сионизм».
Содержание «Письма», сетует С. Куняев, не привлекло серьёзного внимания. «Лишь Аксёнов один глухо, сквозь зубы упомянул о нём в «Огоньке» конца восьмидесятых, как о «политическом доносе», и молчок». А так хотелось скандала… А скандала не было. Да и не могло быть – решительно ничего смелого и рискованного не было в «Письме»: надо ли упрекать Семёна Липкина за то, что его стихотворение «В пустыне», «об очередном еврейском исходе», как и его «Союз И», не соответствует «сущности советского патриотизма»; надо ли упрекать Андрея Вознесенского за то, что он в стихотворении «Васильки Шагала» прямо пишет: «Родины разны, но небо едино. Небом единым жив человек». В сущности, Станислав Куняев выступает здесь не против сионизма, а против свободы творчества, против стремления человека, особенно творческого, быть самим собой, искренним, честным. Плохо, конечно, что трусливые издатели издавали Блока и Достоевского с купюрами, но сионизм тут не виноват, сочинения Блока, Чехова, Достоевского, Гейне и других классиков мировой литературы просто необходимо было издавать без купюр, а купюры вносили редакторы-издатели.
А «Письмо» не привлекло внимания потому, что за год до этого, 14 марта 1978 года, Михаил Шолохов писал Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. Брежневу, в сущности, о том же:
«Одним из главных объектов идеологического наступления врагов социализма является в настоящее время русская культура, которая представляет историческую основу, главное богатство социалистической культуры страны. Принижая роль русской культуры в историческом духовном процессе, искажая её высокие гуманистические принципы, отказывая ей в прогрессивности и исторической самобытности, враги социализма тем самым пытаются опорочить русский народ как главную интернациональную силу советского многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству. Не только пропагандируется идея духовного вырождения нации, но и усиливаются попытки создать для этого благоприятные условия… Особенно яростно, активно ведёт атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Широко практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру, противопоставление русского социалистическому. Симптоматично в этом смысле появление на советском экране фильма А. Митты «Как царь Пётр арапа женил», в котором открыто унижается достоинство русской нации, оплёвываются прогрессивные начинания Петра I, осмеиваются русская история и наш народ. До сих пор многие темы, посвящённые нашему национальному прошлому, остаются запретными. Чрезвычайно трудно, а часто невозможно устроить выставку русского художника патриотического направления, работающего в традициях русской реалистической школы. В то же время одна за одной организуются массовые выставки так называемого «авангарда», который не имеет ничего общего с традициями русской культуры, с её патриотическим пафосом. Несмотря на правительственные постановления, продолжается уничтожение русских архитектурных памятников. Реставрация памятников русской архитектуры ведётся крайне медленно и очень часто с сознательным искажением их изначального облика.
В свете всего сказанного становится очевидной необходимость ещё раз поставить вопрос о более активной защите русской национальной культуры от антипатриотических, антисоциалистических сил, правильном освещении её истории в печати, кино и телевидении, раскрытии её прогрессивного характера, исторической роли в создании, укреплении и развитии русского государства. Безотлагательным вопросом является создание журнала, посвящённого проблемам национальной русской культуры («Русская культура»). Подобные журналы издаются во всех союзных республиках, кроме РСФСР…»
Брежнев поручил Секретариату ЦК КПСС рассмотреть это письмо и подготовить вопрос для обсуждения на Политбюро. Отделы ЦК подготовили справки, в итоге было принято решение: «Разъяснить товарищу М.А. Шолохову действительное положение дел с развитием культуры в стране и в Российской Федерации, необходимость более глубокого и точного подхода к поставленным им вопросам в высших интересах русского и всего советского народа», в «Записке» же, подготовленной для обсуждения, был отмечен «бурный рост русской советской культуры», приведены многочисленные цифры и факты этого роста, указано, что письмо Шолохова, продиктованное заботой о русской культуре, «отличается, к сожалению, явной односторонностью и субъективностью оценки её современного состояния, как и постановки вопроса о борьбе с нашими идеологическими противниками» (см.: ЦХСД. Ф. 89. Д. 16. С. 1—18 и др.).
Так что С. Куняев, как обычно драматизировавший свою участь после передачи «Письма» в ЦК КПСС, особо ничем не рисковал, но с этим автор воспоминаний явно не согласен: «Я не играл. Это была борьба за жизнь, это было отчаянным шагом, поскольку я предчувствовал, что ежели мы не выиграем сражение сейчас, в выгодных для нас условиях, то впереди нас ждут худшие времена» (Куняев С. Поэзия. Судьба. Россия. Кн. 1. С. 300).
Хочется, хочется автору воспоминаний предстать перед своими читателями этаким борцом, героем, страдальцем и мучеником. Но мы, его современники, помним, что пребывание его в группе Бориса Слуцкого и Александра Межирова доставило ему должность рабочего секретаря Московской писательской организации, а после перехода в противоборствующую с ней и за активное участие в борьбе с сионизмом Куняев получил тоже неплохую должность – главного редактора журнала «Наш современник», направление которого полностью не может быть принято по разным соображениям: из-за яростного субъективизма и предвзятости в отборе публикуемых сочинений в 90-х годах из редколлегии выходили один за другим яркие писатели, русские патриоты и державники.
Любопытны страницы воспоминаний о Татьяне Глушковой, которая никак не могла определиться в острой литературной борьбе. Ещё в 1976 году, напоминает Куняев, кумирами Глушковой были Сарнов, Урбан, Аннинский, Роднянская. «Однако к концу 70-х годов Глушкова совершила дрейф, уплыла из объятий Сарнова и Роднянской в «патриотический лагерь» (Там же. Кн. 2. С. 424). Куняев описывает один из ночных разговоров с Межировым в квартире Татьяны Глушковой: «Словно посланцы двух потусторонних сил, мы сражались с ним за её душу, а Татьяна, ещё колебавшаяся, стоит ли ей прибиваться к русскому стану, ждала исхода поединка». Куняев и Межиров сражались за душу, а Татьяна «всю ночь сидела почти молча и непрерывно курила, не зная, в чьи руки – русские или еврейские – попадет её судьба» (Там же. С. 165).
Несчастная женщина, печальна её судьба и как литератора… Стоило Вадиму Кожинову однажды напомнить её колебания и «дрейфы», как она набросилась на него с обвинениями, порой справедливыми, порой несправедливыми. И прав был Александр Межиров в ту ночь, сказав о Татьяне Глушковой:
– Не радуйтесь… Она и от вас когда-нибудь уйдёт, как сегодня ушла от меня…
Татьяна Глушкова – человек одарённый, самостоятельный в творчестве. Однажды ей показалось, что Вадим Кожинов в чём-то не прав, она попросила Куняева дать ей возможность высказаться по этому поводу на страницах «Нашего современника». «Я отказал ей в этой прихоти, – вспоминает Куняев. – Наступил конец отношений, а за ним началась эра бесконечных статей и интервью Глушковой в «Русском соборе» и в «Молодой гвардии» против Кожинова, Шифаревича, Бородина, Казинцева, Распутина, против «Нашего современника» вообще» (Там же. С. 425). А почему отказал? Не умещалась в прокрустово ложе идеологии главного редактора журнала, который раз и навсегда определил, что думать каждому из «Русской партии»? И не моги выходить из этих рамок?
Удивительна нетерпимость к инакомыслящим… Работая в «Молодой гвардии», автор этой книги однажды затеял дискуссию, напечатал две-три статьи, Феликс Кузнецов, тогда ещё не определившийся в своей творческой позиции и ходивший в «либералах», предложил свою статью. Она была с радостью принята, но главный редактор её «зарубил»: не «наш». А ведь это давняя традиция русской журналистики – давать высказаться на страницах журнала разномыслящим творческим лицам.
Или вот недавно Владимир Бушин совершенно справедливо покритиковал Вадима Кожинова (см.: Патриот. 2001. Июль – август. № 30—31), так его тут же обругали, а вслед за этим отлучили от изданий, в которых он до этих пор был желанным автором.
Вот эта нетерпимость, далеко не русская черта, сказывается на многих страницах воспоминаний Станислава Куняева – и по отношению к Сельвинскому, и по отношению к Виктору Астафьеву, и по отношению к Александру Межирову, и к другим.
Многие годы дружил с Межировым, в 1968 году даже сочинил восторженную рецензию о его поэзии, «уставший к тому времени от постоянного комиссарского надзора Слуцкого, с готовностью прислонился к Александру Петровичу и даже стишок о нём написал».
Куняев дарил Межирову свои книги с надписью – «одному из немногих близких», «с любовью», но писал, оказывается, зная, что Межиров – «не просто мистификатор», но и изощрённый интриган, «светский сплетник и просто лжец»: «Шурик-лгун» – под этим прозвищем он был известен всей литературной Москве – и еврейской, и «антисемитской» (Куняев С. Поэзия. Судьба. Россия. Кн. 2. С. 162—163). Не могу понять, как можно знать, что Межиров – «Шурик-лгун», и дарить ему книги «с любовью»? Видимо, для Куняева того времени – это нормально: «посредник и маркитант, предлагающий свои услуги, помог нашему ратоборцу наладить «связи с грузинскими и литовскими поэтами», «получать заказы на переводы их книг», «зарабатывать деньги». Ну как же после этого не подарить книгу «с любовью»? А потом, когда Межиров перестал быть полезным, можно и написать о нём, что «последние годы его жизни в нашей стране были постыдны, смешны и унизительны». Ничего смешного и унизительного в том, что он трагически пережил наш трагический беспредел, нет. Он честно пытался быть русским поэтом, «почвенником», восторженно писал о социализме, коммунистах, а при виде крушения всего того, чему верил, он разочаровался и уехал в США доживать свой век. Что ж тут постыдного и унизительного?
Столь же нетерпимо Станислав Куняев пишет и о Викторе Астафьеве, одобряет его выступления в конце 80-х годов, его письма Эйдельману: «Он вёл себя по-русски бесстрашно, размашисто, дерзко», но резко осуждает «необъяснимые перемены» в его творческой позиции: выход из редколлегии журнала «Наш современник» – «пришли в журнал другие люди, незнакомые мне, да и далёкие во многом»; участие вместе с Владимиром Солоухиным, Владимиром Крупиным и Сергеем Залыгиным в подписании «Римского обращения»; его статьи и интервью, резко осуждающие коммунистов и советскую власть. Автор этой книги знал Виктора Астафьева в то время, когда он, никому ещё не известный, пришёл в издательство «Советский писатель» со сборником рассказов «Синие сумерки», вышедшим в свет в 1969 году. Мы близко сошлись в то время, бывали вместе в гостях, ресторанах и кафе, подолгу разговаривали, а чаще спорили, он в то время уже был ярым антисоветчиком, резко осуждал коллективизацию, много негативного рассказывал и о войне… Он, как и каждый на белом свете, мог ошибаться, не так думать, как Куняев и Распутин, но его творческая и гражданская позиция однозначна – он был русским и не мог быть «перебежчиком и ренегатом», «не на ту лошадку ставить», «давать задний ход и начиная с 1989 года постепенно разыгрывать еврейско-демократическую карту». Автор этих строк тоже, как и Куняев, и писатели-единомышленники, не приемлет его поцелуй с Ельциным, как и Ельцина и все его геростратовские разрушительные действия, но Виктор Астафьев в это время принимал гостя и, как хозяин, должен быть гостеприимным. Только этим можно объяснить этот злополучный поцелуй. Может, он после этого тщательно вытер губы… Кто знает… Но никто не имеет права упрекать Виктора Астафьева в старческом слабоумии, винить его в том, что он продался за тридцать сребреников. Время рассудит…
Если и виноват в чём-то Виктор Астафьев, то только в том, что он, как совершенно правильно пишет ему Н. Эйдельман, порой нарушал «главный закон российской мысли и российской словесности»: «Закон, завоёванный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, прежде всего для всех сторонних объяснений винить себя, брать на себя; помнить, что нельзя освободить народ внешне больше, чем он свободен изнутри (любимое Львом Толстым изречение Герцена). Что касается всех личных, общественных, народных несчастий, то чем сильнее и страшнее они, тем в большей степени их первоистоки находятся изнутри, а не снаружи. Только подобный нравственный подход ведёт к истинному, высокому мастерству. Иной взгляд – самоубийство для художника, ибо обрекает его на злое бесплодие» (Там же. С. 58). И напрасно Виктор Астафьев отвечал Н. Эйдельману в свойственной ему манере – в манере «отчаянной храбрости», как квалифицировал Станислав Куняев его ответ Н. Эйдельману.
Поторопился с ответом Виктор Астафьев – и проиграл. Здесь полезнее ум, знания, а не отчаянная храбрость…
В своих воспоминаниях известный человек по тем или иным соображениям обеляет себя, свои действия и поступки кажутся ему чуть ли не героическими, высказывания – провидческими. Не избежал этого обычного в таких случаях поветрия и Станислав Куняев. Путь его – внимательный читатель это может заметить и по этим двум книгам воспоминаний – был непростым, извилистым, не стоит его сейчас выпрямлять. Умный Александр Межиров очень точно угадал характер Станислава Куняева: «…я чувствовал, как Ваша кровь единоборствует с холодным расчётом, ясным разумом. Это единоборство надо воплотить в слове, сохранив равенство двух великих сил». Воспоминания Станислава Куняева и есть описание этого «единоборства двух великих сил», русская кровь победила в нём холодный расчет, но радоваться ли нам этой победе… Кто знает. Во всяком случае, из «Нашего современника» один за другим ушли Евгений Носов, Виктор Астафьев, а позже и Василий Белов…
А если учесть ещё упрощённый образ Олега Михайлова, доведённый на некоторых страницах воспоминаний чуть ли не до карикатуры (Там же. С. 316—317 и др.), то, естественно, отношение к воспоминаниям Ст. Куняева неоднозначно, вопреки тому, как это представлено в приложении к двум томам – в письмах благодарных читателей. В одном из писем Ст. Куняева сравнивают с американским адмиралом Коллэхэном, разгромившим японскую эскадру: «Ваш подвиг сродни подвигу адмирала Коллэхэна. Осветив сражения на литфронте, раскрыв роль пачкунов типа Мориц в борьбе против русских писателей, Вы показали себя истинным героем. Хвала и Слава Вам, Поэт-паладин!» (Там же. С. 428).
В воспоминаниях Станислава Куняева много страниц отведено русско-еврейским отношениям в современной жизни, прежде всего в литературной. Описывает, как он готовил себя к «большому делу», к борьбе «за судьбу России». А «большое дело» свелось к двум его выступлениям, о которых здесь уже говорилось, – выступлении на дискуссии «Классика и мы» и «Письме в ЦК КПСС о сборнике «Метрополь». Все эти страницы звучат обыденно нормально, но с примесью фальши и претенциозности.
Взять хотя бы несколько фраз Станислава Куняева… В январе 1978 года, то есть после выступления на дискуссии «Классика и мы», Александр Межиров «предпринял титанические усилия, чтобы не дать мне уйти из-под его влияния»… Межиров «со страхом понимал, что такие люди, как я, хотят сделать советскую действительность более русской настолько, насколько позволит история» (Там же. С. 161). Или можно ли всерьёз воспринимать следующие фразы, описывающие душевное состояние нашего героя, решившего написать «Письмо в ЦК КПСС» или выступить на дискуссии… «Русско-еврейское Бородино» – уже само название этой главы звучит кощунственно. Мелкий эпизодик, раздутый средствами массовой информации и самими участниками «Метрополя», превращается на страницах воспоминаний в крупное событие в жизни России. Но автор просто любуется самим собой: «После выступления в конце 1977 года на дискуссии «Классика и мы», когда меня всё-таки не смяли, мне было уже легче рисковать собой»; «Слишком велик был риск», «На Западе мне житья не было»; передавая «Письмо» в окошко, наш герой размышляет: «…постоял немножко, собираясь с духом, понимая, что как только девушка в приёмном окошке возьмёт у меня конверт, то корабли будут сожжены, Непрядва перейдена, и для меня начнётся неведомая жизнь с неведомыми последствиями» (курсив мой. – В. П.).
«Неведомая жизнь с неведомыми последствиями» тут же и последовала – года через два-три издали «Избранное», потом последовали премии, ордена… Расчёт полностью оправдался, обратил на себя внимание инакомыслием, а значит, нужно было улестить пряником – работники ЦК КПСС были опытными государственниками, знали, как в таких случаях действовать.
О русско-еврейских отношениях сейчас пишут много и открыто. Александр Солженицын, Виктор Топоров и многие другие… Виктор Топоров – государственник, русский патриот, еврей, никогда не скрывавший своего происхождения, своих симпатий и антипатий, пьяница, бабник, скандалист (привык говорить правду в лицо), переводчик, критик, открыто говоривший и писавший то, к чему общество ещё не привыкло, – словом, незаурядный талантливый писатель, писал: «Меня часто обвиняют в антисемитизме (хотя применительно ко мне речь может идти только о национальной самокритике)… Меж тем совершенно ясно, что разговор о еврейском преобладании (или о еврейском засилье) в определённых сферах деятельности и о специфических, не всегда безобидных формах утверждения этого преобладания, разговор, в годы советской власти с её неявным и ненасильственным, но несомненным государственным антисемитизмом абсолютно недопустимый, – сегодня, когда евреи перестали скрывать или хотя бы микшировать своё еврейство, не отказавшись, однако же, от методов и стилистики неформального тайного сообщества, – такой разговор сегодня необходим и неизбежен – и вести его надо в форме честного диалога с теми, кого презрительно аттестуют или шельмуют антисемитами» (Топоров В. Двойное дно. Признания скандалиста. М., 1999. С. 330).
Виктор Топоров с присущей ему беспощадной откровенностью признаёт, что за последние годы создаётся «всё более и более благодатная почва» для государственного антисемитизма: «Вторая еврейская революция (как и первая – в 1917) грозит обернуться трагедией – и для всей страны, и для торжествующего сиюминутную победу еврейства» (Там же. С. 331).
Однажды, выступая как критик, Виктор Топоров «подверг уничижительной критике очередную повесть Даниила Гранина» и после этого получил «мешок писем»: «Примерно половина слушателей обвиняла меня в том, что я посягнул на великого русского и советского писателя. Другая половина – благодарила за то, что я наконец размазал по стенке грязного жида. Несколько обомлев от второго потока писем, я вернулся к первому и обнаружил, что все, в которых речь шла о великом русском советском писателе, подписаны выразительными еврейскими фамилиями. Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи – именно и только так. И тут я обомлел вторично» (Там же. С. 334).
Вспоминается в связи с этим 1954 год. В Большом конференц-зале МГУ на Ленинских горах состоялось обсуждение первого романа Даниила Гранина «Искатели», студент третьего курса филфака Владимир Лакшин превознёс его до небес, а аспирант первого года обучения Виктор Петелин, взявшийся написать диссертацию на тему «Человек и народ в романах М.А. Шолохова», мерил каждое произведение по этому «гамбургскому счету» и, помнится, разнёс этот роман в пух и прах.
Тем более хотелось покрасоваться своей смелостью, что только что в «Литературной газете» Виталий Озеров, ведущий в то время партийный критик, расхваливал этот роман. Аспиранту Петелину и дела не было до того, еврей Гранин или русский, просто роман-то был «серый», «он и писал-то на специфическом советском канцелярите с окказиональными заимствованиями из пейзажной лирики того сорта, что попадает в хрестоматию «Родная речь», – так определил В. Топоров стиль современного Гранина (Там же. С. 334).
Много спорного и справедливого в рассуждениях Виктора Топорова о русско-еврейских отношениях вчера и сегодня. И предлагаемый им открытый и честный разговор будет ещё продолжен…
Виктор Топоров деликатно предупредил, что и «вторая еврейская революция», как и первая в 1917 году, «грозит обернуться трагедией», если уже сегодня «торжествующее сиюминутную победу еврейство» не одумается: после 1917 года, как известно, наступил 1937-й, после Троцкого – Ленина пришли Сталин – Молотов – Жданов, после Ельцина с его «семейкой», раздавшей всю российскую собственность в руки преимущественно еврейские, пришёл… Нет, пока не пришёл, но непременно придёт. Таков закон исторической справедливости.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































