Текст книги "История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953–1993. В авторской редакции"
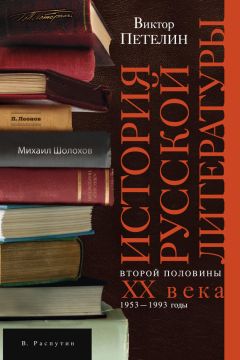
Автор книги: Виктор Петелин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 52 (всего у книги 92 страниц)
Через год отмечали в Архангельске 60-летие Ф. Абрамова, вручение ему ордена Ленина, слушали выступления В. Белова, В. Солоухина, С. Михалкова, академика Д. Лихачёва, художницы Л. Коротковой, представителей многих театров, которые ставили инсценировки произведений Абрамова. «Фёдор Александрович был самый счастливый, самый богатый в тот день, ведь у него в гостях было столько друзей из всех уголков нашей страны и из-за рубежа, а человек богат друзьями. А сколько было живых цветов!..» – так завершила свои воспоминания Е. Клопова.
Но мы чуточку опередили события. До юбилея ещё очень далеко, писательские муки продолжаются, столько ещё надо сделать, пекашинцы вступили лишь в 1945 год – год, когда кончилась война. Предстояло написать ещё множество тяжких сцен… Фёдор Абрамов решил продолжить роман «Братья и сёстры». Во время тяжёлого ранения Фёдора Абрамова отправили в родную деревню, он видел, как деревенские бабы сражались за урожай, преодолевая выпавшие на их долю трудности, и хотелось ему эту бабью долю показать, те тяжёлые годы, когда они остались без мужей, братьев и женихов. И показал… А послевоенное время, разве оно было легче?
В своём послесловии «Вместо эпилога» к книге «Две зимы и три лета» (Советский писатель, 1969) Ф. Абрамов просил читателей набраться терпения, ведь роман только начинается, ещё он покажет две зимы и три лета, а потом… «Я хотел бы написать ещё не одну книгу о северной деревне, о моём Пекашине, и в них, в этих книгах, история пряслинской семьи, её возмужания и нравственного роста займёт не последнее место… Да, перемены на Пинежье большие, и на них надо посмотреть… Об одном прошу тебя, мой друг, – не ищи людей, с которых списаны мои герои. Это – бесплодное занятие. Ведь даже герои строго документального произведения всегда в чём-то разнятся с реальными людьми. А что сказать о героях моего, как говорили в старину, сочинения?» (Абрамов Ф. Две зимы и три лета. Л., 1969. С. 412—413).
Снова в романе «Две зимы и три лета» возникают герои романа «Братья и сестры», испытывая радость от окончания свирепой и жестокой войны. Анна, повзрослевший Михаил, Лизка, Татьяна, Петька и Гришка ведут степенный хозяйственный разговор, Михаил недавно вернулся в дом, увидел беспорядки в своём домашнем хозяйстве, Анна пытается беспорядки как-то оправдать, но Михаил неумолим. Анна с горечью рассказывает, как Федька залез к учительнице в печь, кашу из крынки выгреб. А все началось ещё в прошлом году – разбойник Федька у почтенного Степана Андреяновича украл 8 килограммов ячменной муки, паёк, выданный на страду. Так начинаются первые сцены романа. Повзрослевший Михаил, без двух недель ему восемнадцать лет, редко жил в доме, пропадал на лесозаготовках, потом сплав, потом страда, потом снова лес. «И так из года в год». Внимательно всмотрелся в обстановку дома, почувствовал хозяйскую руку пятнадцатилетней сестры Лизки, без него она командует в доме. Младшенькая Татьянка капризничает, не хочет утереть слёзы и подойти к старшему в доме Михаилу и поприветствовать его. А Михаил стал разгружать свою корзинку с подарками, привёз он 8 метров голубого ситца на платья, чёрные ботинки Лизке. «– И это мне? – еле слышно пролепетала Лизка, и вдруг глаза её, мокрые, заплаканные, брызнули такой неудержимой зелёной радостью, что все вокруг невольно заулыбались…» Она тут же сняла свои старые сапожонки, «заплата на заплате», а Михаил сказал: «Ботинки-то, наверно, великоваты… не было других. Три пары на весь колхоз дали». А за столом Михаил вытащил буханку хлеба, которую дал ему начальник лесопункта Кузьма Кузьмич на память о погибшем отце, и разделил всем поровну, в том числе и Федьке, в честь праздника Победы. «Мать и Лизка прослезились. Петька и Гришка, скорее из вежливости, чтобы не огорчить старшего брата, поглядели на полотенце с петухами. А Татьянка и Федька, с остервенением вгрызаясь в свои пайки, даже и глазом не моргнули.
Слово «отец» им ничего не говорило» (Там же. С. 23).
Так эпизод за эпизодом возникают повзрослевшие жители села Пекашина: Ставровы, Егорша, Степан Андреянович, Марфа Репишная, Анфиса Петровна, Евсей Мошкин, Варвара, Лобановы… Михаил Пряслин – нарасхват, то «ладил крыши, поднимал двери, подводил всякие подпоры под прогнившие потолочины, отбивал и наставлял косы, рушил постройки на дрова… В общем, его мужские руки нарасхват рвали безмужние бабы» (Там же. С. 42). А на селе мало что изменилось: «В Пекашине по-прежнему не было хлеба и не хватало семян, по-прежнему дохла скотина от бескормицы и по-прежнему, завидев почтальоншу Улю, мертвели бабы: война кончилась, а похоронные ещё приходили» (Там же. С. 47).
Анфиса Петровна направила Пряслина в город. Михаил справил свои дела, достал машинное масло и мазь, встретился с Дуняркой, которая совсем вроде бы недавно подарила ему носовой платочек, и всё говорило за то, что она неравнодушна к нему. Но учёба в техникуме изменила её. Она призналась Михаилу, что один знакомый лейтенант предложил ей руку и сердце. Михаил глухо сказал ей: «Иди», а дарёный платочек сжёг, «железный обруч набил на сердце, но куда деваться от памяти?» (Там же. С. 66).
С особой тщательностью описывает Ф. Абрамов праздник Победы в Пекашине, «пошёл этот праздник вперемежку с горючей слезой». Не забыли вдовы своих погибших мужей, многие не пришли на праздник. После первых рюмок, выпитых за Победу, после того, как бабы навспоминались о своих испытаниях и страданиях, принялись говорить комплименты Михаилу за бесперебойную помощь – ведь стольким бабам помогал наладить работу. Анфиса Петровна не выдержала, поднялась и сказала: «– Вы вот тут, жёнки, сказали: ту Михаил выручил, другую выручил, третью… А мне что сказать? Меня Михаил кажинный день выручал. С сорок второго года выручал. Ну-ко, вспомните: кто у нас за первого косильщика в колхозе? Кто больше всех пахал, сеял? А кого послать в лютый мороз да в непогодь по сено, по дрова?.. – Анфиса всплакнула, ладонью провела по лицу. – Я, бывало, весна подходит – чему больше всего радуюсь? А тому радуюсь, что скоро Михаил из лесу приедет. Мужик в колхозе появится… Да, бабы, за первого мужика Михаил всю войну выстоял. За первого! А чем мне отблагородить его? Могу я хоть лишний килограмм жита дать ему?
Анфиса налила из своей половинки в стакан, протянула Михаилу:
– На-ко, выпей от меня. – И низко, почти касаясь лбом стола, поклонилась парню… На Михаила лавиной обрушилась бабья любовь» (Там же. С. 77—78). Сколько ждали праздника, с горечью пишет автор, «а пришёл праздник – деревню едва не утопили в слезах» (Там же. С. 85).
Непредсказуемыми путями развиваются события и судьбы романа.
Несколько лет спустя, размышляя о проделанной работе, Фёдор Абрамов писал: «Я не стою коленопреклонённо перед народом, перед так называемым «простым народом». Нет, и народ, как сама жизнь, противоречив. И в народе есть великое и малое, возвышенное и низменное, доброе и злое. Более того, злое иногда поднимается над добрым и даже подминает его. Примеры? Да их немало как в мировой истории, так и в нашей отечественной, национальной… Многое в жизни любой нации объясняется особенностями национального характера, в нём таятся как взлёты, так и провалы истории. Я убеждён, что русский характер – самый многогранный, и самый разнообразный, и самый, так сказать, невыделанный, что ли…» (О хлебе насущном и хлебе духовном: Сборник. М.: Молодая гвардия, 1988. С. 41—42).
Среди многочисленных участников книги «Воспоминания о Фёдоре Абрамове» стоит обратить внимание на воспоминания Ю. Оклянского «Мужество», в которых передаётся не только портрет Ф. Абрамова, но и главный его завет: «Надо драться!» Ю. Оклянский, пригласивший в 1971 году Ф. Абрамова принять участие в совещании Всесоюзного совета по критике, с удовольствием описывает его выступление.
Роман «Две зимы и три лета» был напечатан в журнале «Новый мир» (1968. № 1—3). Ф. Абрамов с мудрым восторгом вспоминает свои встречи с Александром Трифоновичем, достаточно посмотреть его посмертные публикации: Абрамов Ф. Зёрна памяти // Литературная газета. 1985. 19 июня; Он же. Объединял таланты // Советская Россия. 1985. 30 июня; Он же. На ниве духовной // Наш современник. 1986. № 7. Настолько увлекла яркая фигура Александра Твардовского, что Ф. Абрамов предполагал даже написать книгу о нём, об этом свидетельствовала Л. Крутикова-Абрамова.
А Твардовский записывает в своём «Новомирском дневнике»: «Абрамов. Отказ Косолапова печатать вещь в «Роман-газете» («поскольку мнения в критике разошлись»). Боже, разделать бы эту «Роман-газету», да где, на каких столбцах или страницах, – давно уже «НМ» отказывал себе (и всё чаще) в роскоши по потребности. А дальше что – невозможно в точности предвидеть, но добра не жду» (Твардовский А. Новомирский дневник, 1967—1970. М., 2009. С. 202).
Содержание романа тревожило официальные круги, а Косолапов был вхож в них.
После войны возникли не менее острые проблемы, райком партии гнул свою линию, не считаясь ни с какими оправданиями, Анфиса Петровна делала всё для того, чтобы выполнить указания райкома, в лес направила столько, сколько смогла, но этого оказалось мало. При молчаливом согласии колхозников её сняли с председателей и назначили Дениса Першина, исполнителя райкомовской воли. Михаил согласился с решением, даже первый выкрикнул одобрение, а потом мучительно размышлял о прожитых годах под управлением Анфисы Петровны, о её доброте, искренности, постоянном внимании к бабьей доле, и горько становилось на душе. Потом выбрали председателем колхоза Лукашина, вернувшегося с фронта. И снова началось давление райкома партии на голодных и измученных войной людей: то добровольная сдача хлеба государству, то заготовка леса, то подписка на заём. «Месячник по лесозаготовкам (их стали объявлять с начала тридцатых годов) означал примерно то же самое, что решающий штурм укреплений врага на фронте» (Абрамов Ф. Две зимы и три лета. С. 232), – бесстрашно писал Ф. Абрамов в романе. Лукашин попытался возразить против такого решения райкома, но получил строгое уведомление райкома, и пришлось согласиться; кузница пусть работает, сев на носу, сам пошёл на лесозаготовки. Месяц провёл на лесозаготовках, вернулся, наступила пора добровольной подписки на заём. Ганичев, уполномоченный района, строго предупредил: «Не ниже контрольной цифры. Выше можно, а ниже нельзя». «Это был старый коняга-районщик, сухой, жиловатый и очень выносливый, один из тех уполномоченных-толкачей, которые из года в год, и зимой и летом, и в мороз и в грязь, колесят по районной глубинке – пешком, на случайных подводах, на попутных машинах, как придётся… Его, Ганичева, теперь власть в Пекашине. Вчера, например, Ганичев отдал распоряжение: завтра, в первый день подписки, никого на работы не посылать… Будто жизнь остановилась в Пекашине» (Там же. С. 277).
Ходит из дома в дом и удивляется сопровождавший Ганичева Лукашин, до какой бедноты и обездоленности докатился трудовой народ за годы войны. «И Лукашин опять заметался в мыслях по своей председательской колее. На носу сев – основа основ деревенского бытия, а что он застал в Пекашине пять дней назад, вернувшись с Ручьёв? Полное запустение, если не считать нетёсовского звона в кузнице. А Михаил Пряслин, его заместитель, чуть ли не при смерти: жесточайшее воспаление лёгких. И так, оказывается, уже десять дней. Десять дней колхоз без хозяина! Весной, накануне сева» (Там же. С. 277—278). Ничего удивительного не было в том, что Пётр Житов, инвалид Отечественной войны, решительно заявил, что он готов подписаться на определённое количество трудодней: «Триста шестьдесят делим на двенадцать – это сколько будет? Тридцать. А за три месяца, стало быть, девяносто. Так? Теперь деньги. В этом году на трудодень ни хрена ещё не выдали. Ладно. Возьмём по прошлогоднему. Одиннадцать, даже пятнадцать копеек для круглого счёта. Пятнадцать множим на девяносто – сколько получится? По-моему, арифметика ясная – тринадцать рублей пятьдесят копеек… Ах, так! Колхозная валюта не годится?.. Вот я тебя спрашиваю: что такое эта самая колхозная валюта?» (Там же. С. 285).
Фёдор Абрамов хорошо знал ранние очерки Михаила Шолохова, знал и очерк «По правобережью Дона» (Правда. 1931. 25 мая), вспомнил и казачий смех по поводу районного уполномоченного, «Кальман-уполномоченного», вспомнил и «белоусового немолодого казака», рассказавшего юмористическую картинку в станице Боковской, знал и с той же беспощадностью написал о добровольном займе в селе Пекашине.
О Лукашине и Ганичеве Фёдор Абрамов написал после того, как они обошли многие дома Пекашина: «Они оба устали, измучились. Хождение от дома к дому, из заулка в заулок, одни и те же разговоры и уговоры – всё это начисто измотало их» (Там же. С. 287).
Но на этом не кончились беды пекашинцев, а следовательно, и всех колхозников страны. После богатого урожая Лукашин, радуясь, сказал колхозникам, что пора готовить мешки для зерна, но райком потребовал перевыполнения плана на 215 процентов, и радость у мужиков поуменьшилась. Но и это ещё не всё. «В двадцатых числах августа в Пекашине собралось сразу пять уполномоченных: уполномоченный по хлебозаготовкам, уполномоченный по мясу, уполномоченный по молоку, уполномоченный по дикорастущим – и на них был план – и, наконец, уполномоченный по подготовке школ к новому учебному году. Плюс к этому свой постоянный налоговый агент Ося, – писал Ф. Абрамов. – И все эти люди с пухлыми полевыми сумками, в которых заранее всё было расписано и рассчитано, с утра осаждали Лукашина. И каждый из них требовал, нажимал на него, ссылаясь на райком, на директивы и постановления. Но, конечно, тон среди них задавал Ганичев, уполномоченный по хлебозаготовкам» (Там же. С. 375).
К тому же по 58-й статье арестовали старовера Евсея Мошкина, который якобы писал молитвы, в которых просматривался дух свободы. А оказалось, что Мошкин мог только читать церковные книги, а писать не мог, он неграмотный.
О романе было много публикаций. Б. Панкин напечатал в «Комсомольской правде» статью «Живут Пряслины» (1969. 14 сентября), и Твардовский тут же написал ему благодарственное письмо от 17 сентября 1969 года, подчеркнув, что порой Ф. Абрамова критикуют ни за что: «Так или иначе, хочу сердечно поблагодарить Вас за доброе дело – статью о Пряслиных. Я так рад за Абрамова, человека – мало сказать талантливого, но честнейшего в своей любви к «истокам», к людям многострадальной северной деревни и терпящего всяческие ущемления и недооценку именно в меру этой честности. Авось, теперь его хоть в «Роман-газете» издадут – до сих пор открыто отстраняли, предпочитая «филёвскую прозу» (Воспоминания о Фёдоре Абрамове. С. 657; см. также: Твардовский А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1976. Т. 6. С. 285).
Несколько лет спустя, на совещании Всесоюзного совета по критике, Ф. Абрамов, размышляя о проделанной работе, по словам Ю. Оклянского, «говорил о главном, о коренном – о драматической судьбе русской деревни, о долге литературы и культуры перед нею, говорил так, что каждый сидящий в зале ощутил себя виноватым, обязанным что-то делать. Это была, возможно, первая «обкатка» тех мыслей, которые вылились позже в его известном выступлении на VI съезде писателей СССР – «О хлебе насущном и хлебе духовном» (Воспоминания о Фёдоре Абрамове. С. 511). А на съезде писателей его речь была яркой, при полном зале: «Я не стою коленопреклонённо перед народом, перед так называемым «простым народом». Нет, и народ, как сама жизнь, противоречив. И в народе есть великое и малое, возвышенное и низменное, доброе и злое. Более того, злое иногда поднимается над добрым и даже подминает его. Примеры? Да их немало как в мировой истории, так и в нашей отечественной, национальной… Многое в жизни любой нации объясняется особенностями национального характера, в нём таятся как взлеты, так и провалы истории. Я убеждён, что русский характер – самый многогранный, и самый разнообразный, и самый, так сказать, невыделанный, что ли… кадение народу, беспрерывное славословие в его адрес – важнейшее зло… Они усыпляют народ, разлагают его… Культ, какую бы форму он ни принимал, – всегда опасен для народа» (О хлебе насущном и хлебе духовном. С. 41—42).
Порой маститые друзья упрекали Ф. Абрамова за то, что он передавал свои сочинения в журнал «Новый мир». «Великолепный», по словам А. Твардовского, рассказ «Деревянные кони» был напечатан в этом «гибнущем» журнале (1970. № 3).
Потом снова длительная работа над романами «Пути-перепутья» (1973) и «Дом» (1978), эти два романа завершали тетралогию Фёдора Абрамова, главный смысл которой высказал Евсей Мошкин: «Главный-то дом человек у себя в душе строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет».
Тетралогия «Пряслины», повести «Деревянные кони», «Пелагея» и «Алька» и многие другие рассказы и повести – вот главные художественные достижения Фёдора Абрамова.
Верный спутник жизни Л.В. Крутикова-Абрамова подготовила уникальную книгу «В мире Фёдора Абрамова» (СПб., 2005, совместно с Г.Г. Мартыновым), в которой собраны дневники, записные книжки, письма, добрые надписи со множества книг, подаренных ему с нежностью И. Акуловым, В. Беловым, В. Астафьевым, В. Боковым, Ю. Бондаревым, С. Викуловым, А. Вознесенским, С. Ворониным, П. Выходцевым, Ю. Галкиным, Г. Горбовским, Н. Грибачёвым и далее около семисот замечательных писателей, которые отдают дань крупнейшему русскому таланту.
Абрамов Ф.А. Собр. соч.: В 6 т. Л., 1990.
Абрамов Ф.А., Гура В.В. М.А. Шолохов: Семинарий. Л., 1958, 1962.
Виталий Александрович Закруткин(23 марта (14 марта) 1908 – 9 октября 1984)
На берегу Дона, в станице Кочетовской, много лет жил Виталий Закруткин. Здесь написал он основные свои произведения – «Плавучая станица» (1950), «Сотворение мира» (1955—1967), «Подсолнух» и «Матерь Человеческая» (1969). Лауреат Сталинской, Государственной премии РСФСР (1970), Государственной премии СССР (1982).
Виталий Александрович Закруткин родился 27 марта 1908 года в городе Феодосии в семье народного учителя. Жил на Украине, в Молдавии, на Дальнем Востоке. Окончил Благовещенский педагогический институт. В Ленинграде защитил кандидатскую диссертацию. В Ростове-на-Дону несколько лет заведовал кафедрой русской литературы в Педагогическом институте, откуда в 1941 году добровольцем ушёл на фронт.
Военному корреспонденту Закруткину приходилось не только вести свои «Кавказские записки», но и браться за винтовку – не раз вместе с солдатами ходил в атаки, мёрз в окопах, мок под дождем. И неудивительно, что художнику удалось в «Записках» с яркой выразительностью воплотить невиданный по своему размаху героизм советского человека. Вся книга пронизана светлым оптимизмом, преклонением перед великим подвигом советских воинов.
Не проста судьба Закруткина, не сразу поверил он в свои силы, не сразу понял, в чём его главное призвание. Как талантливый писатель он особенно убедительно заявил о себе романом «Плавучая станица».
В этом романе писатель обрел тех героев, с которыми не расставался всю жизнь, – виноградарей, хлеборобов, простых сельских тружеников.
Закруткин – художник, которому удача сопутствует особенно тогда, когда за каждым созданным им образом стоит реальный прототип, живое человеческое лицо, со всеми его внешними и внутренними особенностями, со сложностью его судьбы, со всеми страстями, противоречиями и гранями человеческого бытия. О чём бы ни писал Закруткин – о войне ли, оставившей неизгладимый след в памяти народной, о преодолении послевоенных трудностей или о «сотворении мира» после Октября, – всюду и во всем на первом плане у него человек, гордый в независимости своего духа, цельный в своей неподкупности, мужественный в преодолении своих противоречий и страстей.
Дважды побывал автор этой книги в Кочетовской. Вместе с Виталием Александровичем был на рыбалке, в совхозном винцехе, на празднике Урожая, в семье рабочего совхоза, наблюдал за писателем в разговоре с людьми разного положения, возраста, профессии – всюду и везде встречали его радостные улыбки, крепкие объятия. Пришлось провести с ним полдня в Ростове. Где мы только не побывали за эти полдня. И всюду он что-то просил, пробивал, требовал для совхоза или для станичников… Весело было в тот вечер в Кочетовской. В разговорах смешное переплеталось с серьёзным, деловое, будничное – с песнями, то грустными, то залихватскими. Не обошлось и без воспоминаний о войне.
Четыре дня, проведённые в Кочетовской, пролетели быстро и незаметно. Горячо и много говорил Закруткин о дорогом его сердцу – о литературе. Лев Толстой и Иван Бунин – его любимые классики. Читал наизусть стихотворения Пушкина и отрывки из его поэм. С особым чувством Закруткин рассказывает о Михаиле Шолохове – своём учителе и добром друге. Читатели хорошо знают его книгу «Цвет лазоревый», его очерки, статьи о великом писателе земли Русской. И, словно бы подводя итог разговорам о Шолохове, Закруткин сделал дарственную надпись на книге «Цвет лазоревый»: «Мне думается, что отношение к Шолохову уже давно должно стать мерилом истинной человечности, художнической честности, любви к людям и своей земле». И после этих бесконечных разговоров о Шолохове оба они стали для автора этой книги ещё ближе, ещё роднее, ещё человечнее.
Эта поездка дала очень многое для понимания творческого облика Виталия Закруткина. Не для изучения жизни переехал он в Кочетовскую, а для того, чтобы жить так просто и естественно, как виноградари, рыбаки, партийные работники и руководители совхозов. И в каждом его произведении – судьбы людские, счастливые и несчастные, полные неожиданных поворотов, падений и подвигов, простые и сложные, как сама жизнь.
Вот хотя бы рассказ «Подсолнух», исполненная высокой поэзии баллада о чабане, о богатстве его души, человечности, доброте, неиссякаемой любви к природе, к миру, к людям. Это взволнованный, мудрый рассказ об отце, скорбящем о погибшем сыне, но не теряющем веру в жизнь.
Из семечка, найденного в кармане куртки погибшего сына, старый отец вырастил подсолнух на диво всем.
Он часами просиживал у лунки, в которую посадил семечко, и земля, словно отогретая взглядом, дала семечку жизнь: «…белёсый стебель, пробивая толщу земли, потянулся вверх, потом пронзил последний слой подсохшей почвы и, наконец, проклюнулся, вышел из подземного мрака и замер, окружённый прохладой бесконечного, наполненного свежим воздухом мира».
Не было ещё такого, чтобы на солонцах подсолнух произрастал. Жизнь для людей приобрела какой-то другой смысл, пришла радость ожидания, любовь к ещё слабому, хилому, беспомощному, но такому живому растению.
Потеплели глаза сурового отца при виде этого чуда. Как за малым ребёнком ухаживал отец за подсолнухом. Подсолнух не был для него экспериментом, как для агронома, который уже, заглядывая в будущее, видел здесь целые плантации подсолнуха. Раз семечко было в кармане тужурки сына, значит, оно хранит прикосновение его рук. Вырастет подсолнух – напомнит о сыне, оставит память в людях о нём.
Дождь ростку нипочём. Хорошо. Но град может истерзать его, уничтожить его силу и красоту. И старик при виде опасности, угрожающей подсолнуху, несмотря на немалые годы, побежал, чтобы прикрыть от града. Он «успел добежать до него в ту самую секунду, когда по травам зашуршал частый крупный град.
– Держишься?! – закричал отец. – Держись, сынок, держись!
Распахнув полы плаща, он прикрыл ими подсолнух. Тяжёлые градины гулко стучали по мокрому плащу, скатывались на траву, прыгали по залитым водой солонцовым западинам… Старик стоял, слегка расставив руки, опустив голову, стараясь не шевелиться, чтобы неловким движением не сломать тугую корзинку подсолнуха, от которой тянулся слабый медовый запах».
А после этого началась испепеляющая засуха, немилосердно пожирающая всё вокруг. Всё поникло под действием жары и суховея. Только подсолнух, наперекор унылой степной серости, гордо и вызывающе поворачивал «к горячему солнцу свою цветущую корзинку». И даже скептики поверили в силу человеческого тепла, которое согрело, взрастило, уберегло от злых сил природы слабую былинку в степи. Люди «перехитрили» степь. Люди вырастили подсолнух. А нездешний прохожий взял да и срезал эту красу и пошёл себе, полузгивая семечки. Не знал он, что значил для людей этот подсолнух.
Как нельзя лучше соседствует с этим рассказом повесть «Матерь Человеческая», история простой русской женщины Марии. Писатель воздал ей должное за её неустанный труд, за любовь к людям и милосердие, за материнское терпение, за пролитые слёзы, за всё, что пережила она и свершила во имя жизни на любимой нелёгкой земле. Мария – и живой человеческий характер, и одновременно символическое воплощение той Матери Человеческой, в образе которой – и наша вера, и наша надежда, и наша любовь. Это гимн женщине, прекрасному символу жизни и бессмертия рода человеческого. Взволнованная романтическая приподнятость, хорошо ощутимая песенность и торжественный пафос утверждения победы добра над злом придают повести своеобразный настрой.
Переезд в станицу Кочетовскую был для Закруткина не началом новой жизни, а всего лишь возвращением к юности, к истокам, питавшим молодость художника, к людям, которые были ему близки и которые формировали его взгляды, мысли, чувства. Ведь годы, самые важные для формирования характера, Закруткин провёл в деревне, подобной Огнищанке из «Сотворения мира».
В «Сотворении мира» наибольшие писательские удачи мы видим в описании семьи Ставровых. И это не случайно: в образах фельдшера Ставрова, его жены Клавдии Васильевны, сыновей Андрея, Романа, Феди, дочери Кали легко угадываются отец, мать, братья и сестра писателя. А уж о том, что образ Андрея Ставрова вобрал в себя много автобиографического, личного, и говорить не приходится – настолько это очевидно и совпадает с фактами биографии самого писателя. Понятно, что он что-то изменял, добавлял, отбрасывал несущественное и неинтересное, но в основе своей это повествование о собственной судьбе и судьбе своей семьи.
Действие романа «Сотворение мира» начинается с 1921 года – именно с того года, который хорошо запомнился автору. Мог бы он начать с революции, показать Гражданскую войну, сложность и противоречивость этого трудного времени? Нет, не мог бы. Без конкретных деталей, увиденных самим художником, талант В. Закруткина бескровен и робок. Другому писателю, возможно, и не нужны такие лично наблюдаемые детали, он обходится без них, с помощью домысла, фантазии. А В. Закруткину эти детали необходимы.
Неторопливо и вместе с тем остро-драматически развиваются события:
«Крест был готов. Он был сделан из дубового бревна, снятого с конских яслей. Кони годами терлись об ясли, годами роняли слюну на крепкое дерево, и потому крест лоснился, как рыжая, в мыльных натеках конская шея.
В середине бревна торчало грубо выкованное, тронутое ржавчиной железное кольцо, к нему когда-то привязывали повоз. Кольцо надо было снять, но у старика, который делал крест, иссякли силы… Шаркая валенками, старик отошёл, прищурил глаза и вздохнул:
– Эхе-хе… Грехи наши тяжкие… Вот, гадал человек, что от голода уйдёт, из-за Волги в нашу Огнищанку прибыли, детей и внуков с собой привёз, в господском дому поселился, а от смерти не ушёл».
Гнетущая атмосфера безысходности, голода, нищеты, непоправимого бедствия народного возникает с первых же страниц романа. Всё привычное рушится, священник на похоронах «говорил с непонятной угрозой, словно не просил, а требовал у Бога».
Так начинается роман – от голода умирает старый Данила Ставров. Все крохи, которые ему перепадали в это лихолетье, он отдавал внукам: лишь бы они выжили, им ещё жить да жить, а он своё отжил.
Обряд похорон совершается в спешке, без соблюдения обязательной формы. Да и как тут соблюдать обряд, когда «мрут люди как мухи». По тридцать человек в день хоронит престарелый священник. Люди испуганы, торопливы, думают только об одном – пережить эту лихую годину. И от конкретного эпизода В. Закруткин идёт к широкому обобщению. Не только эта семья и эта маленькая деревенька, но и вся великая Россия переживает страшную пору – голод косит тысячи людей.
О «Сотворении мира» много писалось. Даже в резко критических статьях отмечалась широта охвата исторических событий, разнообразие типов, созданных художником, стремление через малое раскрыть глубинные процессы, происходившие в то время. Говорили и о недостатках – об излишней детализации, о растянутости и композиционной несогласованности разнородного материала, вводимого в роман.
Здесь появляется Ленин, участвуют крупные политические деятели, авантюристы международного масштаба, разведчики, генералы, дипломаты, рабочие, крестьяне, партийные и советские работники. Каждый, вовлечённый в данное действие ходом событий, либо помогает сотворению нового мира, либо всеми силами старается разрушить его. Этот новый мир складывается не просто, потому В. Закруткин не мог замкнуть своё повествование границами малой Огнищанки из двадцати домов. И совсем не случайно один из персонажей – Долотов на правах старого знакомого приехал к больному В.И. Ленину. В разговоре он обратил внимание вождя на факты, которые внушали ему беспокойство: образовались ножницы между ценами на промышленные товары и ценами на продукты. Крестьянин не хочет задёшево вывозить на рынок плоды своего труда. Так связываются воедино большой, исторический мир и мир малый, огнищанский.
Не только к своим героям привязан художник. Всё, что их окружает, – земля, небо, леса, поля, весеннее цветение черёмухи, запахи луговых трав, – всё это создаёт неповторимый образ матери-Родины, бесконечно дорогой и любимой России.
Закруткин пытается раскрыть движущие пружины социальных процессов, происходящих в мире. В поле его зрения не только Ставровы, огнищанские коммунисты, крестьяне, ищущие новых путей к социальному равенству и справедливости, но и весь большой мир с его политическими столкновениями, международными распрями.
В публицистическом отступлении В. Закруткин проникновенно говорит о смерти Ленина – тяжком горе, которое обрушилось на человечество:
«На земле не оставалось такого уголка, такой страны, где, подобно искрам в ночи, не светили бы призывы коммунистов. Ещё темна была холодная ночь и очень далёким казался рассвет, но посеянные Лениным искры светились везде… По всей земле, во всех странах, с трудом и отчаянием, с верой и надеждой поднимались борцы за свободу. Они умирали в неравных боях, но их становилось всё больше, и объединяло их всех имя – Ленин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































