Текст книги "Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной"
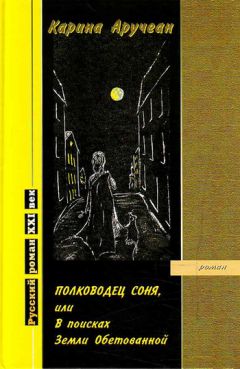
Автор книги: Карина Аручеан
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 51 страниц)
«И только наутро нашли его тело.
И зна-а-мя сжимал он в засты-ывшей руке».
Ночью подморозило. Соня уныло бредёт по пустынному заснеженному переулку. Вдруг слышит из соседнего двора ужасные детские крики. Заглядывает в арку: под глухими стенами без окон трое здоровых парней колотят пацана. По переулку важно идёт бравый военный, Соня – к нему:
– Там пацана бьют. Помогите!
– Мне некогда, – военный ускоряет шаг.
Народу никого. Что она может сделать? В ней – «всего метр пятьдесят с чуть-чуточкой». Крики мальчишки сдавленнее – душат его, что ли? Кажется, эти крики – в ней, разрывают внутренности. Соня, размахивая хурджином, как пращой, врывается с индейскими воплями во двор. От неожиданности мальчишку отпускают – тот убегает. А парни валят Соню, колотят головой о лёд. Один, мерзко гнусавя: «Ты, сука, меня на всю жизнь запомнишь», лезет грязной рукой с отвратительно чёрными ногтями к ней под брюки.
День, что ли, сегодня такой – день дурацких подвигов?
Кончилось бы плохо, не прибеги мальчишка со старшим братом и соседом. Обидчиков разогнали – оказалось, те вытрясали из мальчишки деньги, с которыми тот шёл в магазин, а потом «учили».
Соню подняли, благодарили, звали попить чаю.
– Всё в порядке, – пробормотала Соня. – Я спешу.
А назавтра в паху вздулись лимфоузлы, внутри «интересного места» появились нарывающие бобоны.
«Сифилис!» – вздрогнула Соня, вспомнив грязные ногти вчерашнего парня и его угрозу: «Ты, сука, меня на всю жизнь запомнишь». Срочно сделать анализ! Но ведь если это сифилис, то её возьмут на учёт, сообщат по месту жительства, – именно так и делают. Пятно на всю жизнь! Побежала к троюродной тётке-гинекологине.
– Похоже! – сказала та и согласилась тайно сделать анализ.
Но в то, что это трагические последствия сониного подвига, не поверила, будучи циничной, как все гинекологи:
– Эту сказку даже никому не рассказывай! Ну, переспала неосторожно с кем-то – бывает! Теперь только до получения результата анализа соблюдай гигиену, чтобы не заразить дочку и вообще никого.
Если у неё позорная болезнь, она не станет жить… лечиться годами, жить изгоем.
Звонит Ирочке в Каховку – прикоснуться к кому-то родному. Соне, которую сестра звала «генералиссимус», потому что Соня вела себя так, будто старшая, сейчас хочется быть маленькой. В «историю» Ирочка сразу верит, призывает не тревожиться заранее. А вечером неожиданно прилетает, бросив работу и мужа:
– Сколько надо, столько здесь пробуду. Помогу с Манюней.
Соню душат слёзы благодарности. Хорошо иметь старшую сестру! Особенно такую: всегда делает, что в данный момент нужней всего… без патетики, без лишних слов, хотя не прочь поехидничать… но подколы её – просто бегство от пафоса.
«Сифилис» оказывается примитивной инфекцией. Сестра уезжает. Но Соня сломлена. Она как продырявленный воздушный шарик. Ей больше не взлететь. Не то чтобы она разочаровалась в жизни. Нет, жизнь по-прежнему прекрасна, но отодвинулась от Сони и, прекрасная, существует сама по себе. И небо осталось небом, но не для неё. Она больше никогда не сможет. Она по всем статьям банкрот.
Никого не сумела сделать счастливей, хотя так много рассуждала об этом, готовилась к этому. У неё не выходит так просто, как у Варвары, у Лии, у Оси, у папы, у Ирочки.
Она и дочке портит жизнь. В последнее время Манюня играет в страшную игру – возит за собой на саночках куклу, стучится в воображаемые двери и говорит жалостным голосом:
– Вы не сдадите нам квартиру? Хоть на неделю! Нет? Ничего, мы на вокзале переночуем…
Надо спасать ребёнка от такой матери! И Нанулю, чтоб не повторяла сониных ошибок, не увлекалась красивыми словами. Сделать слова делами Соня не сумела – ей нечему учить других. Банкрот, банкрот!
Себя надо было убить, а не покушаться на Леона. Себя! Чтоб никому не доставлять хлопот и разочарований.
Соня так и сделает.
Манюню заберёт Ирочка. Манюня жизнеустойчива, хоть и любит поныть, – переживёт потерю матери: в ней силён инстинкт самосохранения. Манюню невозможно наказать – тут же чем-то компенсирует лишения.
– Не пойдёшь гулять!
– Ничего, я по телевизору мультик посмотрю.
– Не будешь мультик смотреть!
– Ну и не надо, я порисую.
– В угол!
А через минуту она уже там играет: водит пальчиками по стенке, будто пальчики друг к другу в гости ходят, разговаривают.
Не страдать от наказания и с удовольствием играть в углу, куда тебя поставили, чтобы лишить на время радости жить, и всё равно уметь найти радость в чём угодно, – это много! это характер! Соня узнавала в дочке себя и радовалась. И сейчас это успокаивает: Манюня не пропадёт.
Вернулся в Москву Ося, но Соня отказывается от встреч с ним, ссылаясь на занятость. Даже радоваться нет сил. Ни на что нет сил.
– Какой сегодня день?
– Среда…
Эта чёртова среда, кажется, никогда не кончится! До воскресенья-воскресения не дожить…
Последние годы пролетели, как один долгий день: с ожиданием рассвета, который оказался блёклым и смазанным дымкой дождя, но некогда было предаваться разочарованию, потому что обступали дела, – и только завершала Соня одно, третье, десятое, как вылезали новые из тёмных углов неуютных чужих квартир… и она не успела заметить, как настиг полдень, грохочущий, будто поезд… поманил стуком колёс и обещанием далей, принял в своё чрево, но внутри шла мелкая суета, чай и простыни одинаково пахли хлоркой, меняющиеся попутчики – водкой и котлетами, поцелуи в тамбуре – сигаретным дымом, уборной, имели кислый привкус металла с пластиком… а дали оставались так же далеко, как вначале, – и всё чаще закрадывалось сомнение в их существовании… наконец, поезд выплюнул её на полустанке, одну с дочкой, незаметно выросшей среди случайных людей и мелькающих за окнами пейзажей… а тусклое солнце уже клонится к закату… и наступивший вечер накрывает усталостью, нежеланием видеть завтрашний рассвет, который наверняка окажется таким же, как предыдущий… и нет желания садиться в следующий поезд, где всё будет так же.
Даже мелочи отторгают Соню, делая невозможным существование: автобусы не приходят вовремя, когда она спешит, шнурки рвутся.
Соня чувствует себя, как раненый в живот, который просит его пристрелить не потому, что не хочет жить, а потому что слишком больно.
Но пристрелить некому. Придётся самой.
Добывает снотворное. Покупает бутылку портвейна – напиться перед смертью, чтоб море стало по колено. Отправляет Манюню к тётке.
Она всё спокойно продумала.
Нанулю, Осю и всех знакомых просит ни вечером, ни ночью ей не звонить и тем более не заходить – мол, у неё любовное свидание. Оставляет незапертой дверь, чтобы потом не взламывали квартиру.
Идёт под душ, надевает всё чистое, как положено. Садится на диван. Ставит на стол перед собой зеркало – наблюдать, как умирают. Глотает горсть таблеток и вливает в себя полбутылки портвейна. В животе делается горячо. Комната слегка плывёт, но спать не хочется. Внутри всё – слоями: спокойствие, возбуждение. Слои не перемешиваются. В самой глубине – спокойствие. Допивает портвейн.
Свет становится нестерпимо ярким. Перед ней – залитая солнцем пустыня.
«…И возведён был Духом в пустыню, чтобы быть искушённым от зла… Евангелие от Матфея»…
«…и возведён в пустыню…чтобы быть искушённым… от морфея… Уснуть и видеть сны… Быть или не быть?»…
«…не быть?… Так души смотрят с высоты… с высоты… с крыла Храма… люди и повозки внизу ма-аленькие… Ангелам заповедано о тебе»…
Свет тускнеет. Она снова на диване перед зеркалом в овальной раме. В зеркале чужое лицо. Разве это она? Нет, она совсем другое! Только что – пока не понять, скоро узнает. Лицо в зеркале бледнеет.
Губы становятся голубыми. Вот оно, началось! Впереди, за зеркалом над книжным шкафом расклеился и топорщится стык обоев. Обои розовые, по ним – белые контуры листьев с прожилками. Скелеты листьев…
«…все – скелеты. Как умирают? Надо понять… Ангелам заповедано… на руках понесут… Куда?»
Ангелы понесли в туалет – неудержимая рвота подступила к горлу. Обняла унитаз, опустила над ним голову.
Шумит вода в трубах. Шумят крылья ангелов.
Распахнутая в туалет дверь – напротив двери входной. На стыке с нею тоже отклеились обои. Ветер из форточки в комнате долетает сюда, колышет бумажные клочья. Они шуршат. Шуршат крылья ангелов.
«Ангелам заповедано… да не преткнёшься ногою о камень»…
Соню продолжает выворачивать. Пространство едет одновременно вниз и вверх, как-то скручивается… Из того места, где отклеившиеся обои, – именно оттуда, а не из двери! – появляется Ося. Или ангел?
Соня как бы издалека слышит свой голос:
– Что пришёл? Я же говорила, чтобы ни в коем случае…
– Что говорила? – удивляется Ося.
– Я же предупреждала, что любовник…
– Не помню. Извини. Я просто проходил мимо. У тебя свет горел. Решил зайти. Вижу: дверь приоткрыта. Где любовник?
– Выгнала.
Ося ведёт себя, как ни в чём не бывало. Будто не видит состояния Сони. Может, этого не видно? Может, она так хорошо владеет собой? Вряд ли. Но если и так, у неё нет больше сил «владеть собой». Пусть уходит. Ей некогда. Ей надо умирать.
– Мне плохо. Уйди.
– Нет уж, раз плохо, – посижу. Я никуда не тороплюсь. Ты выпила лишнего (о чём это он? догадался? или о портвейне?). Тебе лечь надо. Я чайник поставлю.
Ося вдруг превращается в Мехти, а Соня опять – ремарковская Изабелла. Протягивает руки к Мехти-Рудольфу, моля о спасении.
– Где я, где ты, где все мы, Рудольф? – шепчет Соня-Изабелла Осе-Мехти. – Всё бежит, проносится, как ветер. Держи меня крепче! Не отпускай! Вон они летят! Все эти мёртвые отражения…
Руки Оси сильнее, чем руки Мехти-Рудольфа. Увереннее. Он закутывает Соню в плед, как маленькую, несёт на кровать…
«…на руках понесут»…
…и укрыл её одеялом которое стало небом и зажглись на нём звёзды и задули космические ветры обволакивая душу укутанную в это чудное одеяло и забаюкали забаюкали…
«Вот я и умираю, – засыпая думала Соня. – Какая прекрасная смерть»…
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
Проснулась наутро опустошённая. Во рту металлический привкус. Болят кишки. Перед нею на стуле – кружка с чаем и яблоко. В чае плавает лимон. В кресле спит одетый Ося.
«Так, значит, жить? И снова просыпаться, в безумии мгновенья торопя? И возводя постройки декораций, играть для всех, а в общем – для себя? – почему-то думалось стихами. – Вновь создавать лишь для себя рекламу того, что жизнью с древности зовут? И наводить на сцене, полной хлама, хотя б порядок, если не уют?»
Порядок навёл ночью Ося. Не было ни бутылки из-под портвейна, ни пузырька из-под снотворного. Значит, Ося всё понял и стерёг её до утра, понимая, что «Скорую» надо вызывать лишь в крайнем случае, потому что иначе Соню поставят на учёт в психушку. Крайнего случая не случилось. Наверное, потому что смешала снотворное с вином.
И это не удалось… Но не было удручения, как не было и радости. Ну, жить – так жить. Значит, так зачем-то надо.
– Звони тётке, – сказал проснувшийся от сониного шевеления Ося. – Скажи, что приболела. Я вечером заберу у неё Манюню и утром отведу в детский сад. У тебя есть раскладушка? А то в кресле неудобно. Я сейчас тебе овсянку сварю. Как её варят?
О случившемся ни слова. Может, ничего не понял?
Но почему же он всё-таки пришёл?! Никогда такого не было, чтобы без звонка. А тут… Так вовремя! Неспроста это. Говорит: не помнит, что просила не беспокоить. Странно…
Две недели, пока Соня была слаба, Ося пас её, как мама, умудряясь поспевать и к родителям, и в аспирантуру, и в библиотеку. Всё перекрученное незаметно спрямил – «упростил выражение» как математик. Казавшиеся нерешаемыми задачки нашли решение. Ося даже договорился о корректорской работе для неё в институтском издательстве. Но пока, по его мнению, следовало отдохнуть, в чём он обещал помочь.
Соня всё больше восхищалась Осей, наблюдая вблизи его удивительно мудрое существование, – без умствований он делал каждый раз единственно верное в данный момент, не задумываясь ни о рецептах, ни о себе самом, ориентируясь только на окружающих и дело, которым занимался. Окружающие и дела ничуть ему не мешали, напротив – будто подсказывали, как себя с ними вести, чтобы ненапряжно и в лад.
Ося не искал Бога. Бог тихо жил в его душе, Ему там было уютно – Богу не было необходимости даже беседовать с Осей, тем более что Ося искренне считал себя атеистом.
Искать что-то, находить и терять что-то можно, только если это «что-то» вне тебя. Ося не искал смысла – он был им. Не искал любви – был любовью. Не искал силы и радости – был ими. И генерируя из себя энергию первозданной истинности, не размышляя о ней, а будучи ею, не заставлял жизнь сопротивляться – и она радостно с ним сотрудничала.
Вписав Соню в свою орбиту, он чудесным образом сделал так, что и жизнь вокруг Сони сдалась его незамысловатым действиям, став вдруг простой и ясной, как Ося. Будто всё перетасовалось и сложилось заново – правильно.
Даже работа по специальности нашлась. Знакомый сообщил об вакансии в одном из журналов и пристроил туда Соню.
…То, что случилось с ней, было помрачением! Желать убить бывшего мужа, потом – себя… И к этому привело, казалось бы, самое святое – любовь! Значит, это не была любовь. Это было искушение. А Ося – ангел. «Ангелы понесут на руках своих»… Ося спас её дважды – и тогда, помешав скормить чёртов ботулин Леону, и в ночь самоубийства, а то ведь она, чего доброго, повторила бы попытку… И на руках понёс.
– Ося, ты ангел!
– Ангелы не бывают толстыми. Будь я ангел, то с таким весом быстро стал бы падшим.
– Ангелы становятся падшими, когда отказываются служить и тщатся быть, как Бог. Как, как бы – понимаешь? На Бога не тянут, а служить не желают. Ты не тщишься… ты служишь.
– Зачем тщиться? Меня вполне устраивает быть инженером. Жить, как живу. И я не служу, а работаю. Мне это нравится… Давай заберём Манюню из садика пораньше и в зоопарк сходим? Я сегодня свободен.
Конечно, то помрачение было искушением. Но искушение – способ познания. И для искушаемого. И для того, кто искушает. Искуситель пробует понять через реакции искушаемого, что того ведёт, где в нём границы Бога и есть ли туда лазейки. Возможно, это попытка искусителя через чёрный ход подобраться к Богу. Но и искушаемый познаёт границы своей силы и слабости. Не поддашься искушению – не узнаешь. Не разберёшь часы – не поймёшь, как ходят. Не распадёшься – не соберёшься заново. Возможно, лучше. Не попадёшь из первозданной гармонии в хаос – не будет повода проявить свободу воли и упорядочить хаос собственноручно, создав новую гармонию. Не отступишь от Бога – не увидишь, что путь от Него до точки, где сейчас находишься, ведёт в пустоту. Не умрёшь – не возродишься. Вспомнила свои мысли в Сергиевой Лавре в день после измены Леона с Зоей: «Новая жизнь может начаться, если не побоишься умереть». Она не побоялась, хоть и это было в своём роде амбицией, как многое, про что она сейчас понимает, – и Господь дал ей другое сердце… то, которое было в ней когда-то, пока она не напичкала его чёрт знает чем.
Соне стыдно, что она так много думала о себе, воображая, что думает о Божьем Промысле и ближних. Ближние были просто «экспериментальным полем», на котором она опробовала догадки о Божьем Промысле. Теперь она будет жить для них. Для того Бога, который в них, а не в ней, – в тёте Варе, в Осе, в Ирочке… Соня редко Ирочке писала, хоть знала, как сестра ждёт писем. Соне стыдно. Она так всех любит! Так любит! Просто сердце разрывается, как любит! Они такие хорошие! А она эгоистка! Приносила других в жертву своим амбициям, своему «пути». Всё пыталась, дура, что-то понять – и лишь запутывала. А надо было просто любить, не умствуя. Любить и всё время что-то делать для тех, кого любишь. Что-то, чего они ждут, даже если она сама считает это ерундой, как письма Ирочке, раз Ирочка и без них знает, что Соня её любит. Теперь она станет писать Ирочке раз в неделю. И маме… Заберёт Манюню с пятидневки и будет проводить с ней каждый вечер… Неужели надо было наделать кучу ошибок и почти умереть, чтобы понять эти простые вещи?
«Если пшеничное зерно умрёт, падши в землю, то принесёт много плода»…[67]67
Библия, Новый Завет, Евангелие от Иоанна. Гл. 12, ст. 24.
[Закрыть] Конечно, если это зерно, а не дерьмо. Может быть, она всё-таки зерно? Впрочем, и дерьмо для производства плодов годится… но ему для этого тоже надо пасть в землю и послужить чему-то, а не воображать себя самодостаточным…
Опять за старое, Соня?! Кончай болтать сама с собой!
– Пойдём, Ося, за Манюней – и в зоопарк. Я готова.
…Скоро Новый год. На улицах – ёлки. Ходят Деды Морозы в красных шубах с цифрой «1974».
В знакомых компаниях, у тёток, в редакциях обсуждают военный переворот в Чили, окончание Вьетнамской войны, конфликты СССР и Китая, перманентное арабо-израильское противостояние, палестинский терроризм, начавшуюся в прессе кампанию против Сахарова.
Соня отмечает первую зарплату, полученную на новой работе, и то, что всё устроилось. Даже штамп постоянной московской прописки стоит в паспорте – приятель-москвич, живущий один, согласился на фиктивный брак и прописал как жену. Будет ждать, пока она накопит денег, разведётся и построит себе кооперативную квартиру, что было бы невозможно без постоянной прописки. Ося и большинство других сониных друзей жили с родителями, просить их о такой услуге она не могла. А тут – будто в сказке, всё сложилось. Всё!
Гости весело шумят, поднимают тосты, много курят. Градус застолья повышается. Соня разгорячена. Выходит с Осей на кухню открыть форточку, чтобы дым вытянуло. Поднимает голову к форточке – глотнуть свежего воздуха.
Ося стоит перед ней – получилось, будто подняла лицо к нему. Их губы в опасной близости друг от друга. Оба вздрагивают и замирают. Они до сих пор не думали об этом.
Какие у Оси красивые глаза! Как тёмные вишни. И губы полные… яркие… Ах, они, оказывается, ещё и мягкие… и сильные… и нежные… и умелые… И руки, оказывается, умные, а вовсе не неуклюжие… Боже мой, как много времени они пропустили!
Когда они оторвались друг от друга, свет на кухне был выключен – кто-то, видимо, заглянул и погасил, решив, что так будет лучше, а они не заметили. Гости разошлись.
– Ты сама первая протянула мне губы, – смущённо сказал Ося.
– Нет, я ни о чём таком не думала. Это ты первый. А потом мне понравилось.
– Мне тоже.
Оба счастливо рассмеялись. И стали медленно расстёгивать друг другу одежды, глядя в глаза. А потом он взял её и понёс…
«Ангелы понесут…»
На руках или на крыльях?
Леону она сдалась, Осе – отдалась. Легко и радостно. Так хорошо ей никогда не было.
«О, целуй меня поцелуями уст твоих! Ибо ласки твои слаще вина»…
И была на всём белом свете настоящей только любовь… только любовь.
А под утро, когда Ося уже уютно посапывал и Соня засыпала, зашептал в ухо забытый голос Ангела Мани: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет в том пользы… Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт»…[68]68
Библия, Новый Завет, 1-е Послание к коринфянам. Гл. 13, ст. 8.
[Закрыть]
Соня вскочила, как ошпаренная, решив, что проспала на работу, потому что не завела с вечера будильник.
– Иди ко мне, – потянул Ося.
– Подожди, какой сегодня день?
– Суббота…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
Чёрный Железный Человек медленно взмыл в сиреневое от городских огней ночное небо. Толпа на площади замерла. И разом выдохнула:
– У-у-ух-х!
Замер и Чёрный Железный Человек. Худой, как Кощей, в длинной шинели, полы которой вот-вот взметнутся и накроют зловещей тенью площадь, город, землю, он виделся снизу ещё более огромным, чем был. Он будто примерялся к тому, чтобы попрать толпу и сделать её постаментом, которым она обязана быть. Сейчас взмахнёт полами-крылами, падёт коршуном. Раздавит.
Мощные прожекторы с подъехавших грузовиков осветили Железного Человека. Тысячи людей внизу стали невнятной массой, а он – каким-то отдельным, особенно чёрным и величественным в ярком свете.
Могло бы показаться, что он воздвигнут прямо в небе, если бы не толстый трос, петлёй накинутый на шею, – Чёрный Железный Человек был повешен.
Его тянул по небу длинной рукой высокий кран, медленно опуская всё ниже, ниже.
– Рука возмездия! – громко произнёс кто-то.
– Памятники не при чём, – брезгливо отозвался другой.
– Это не памятник. Это символ! – зашумели вокруг.
– Двадцать пять тонн бронзы! Упадёт, разлетится на куски, – и опять его жертв будет не сосчитать[69]69
Речь идет о снятии после победы над путчистами в августе 1991 г. памятника Феликсу Дзержинскому, «Железному Феликсу», – первому председателю ВЧК (большевистской Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, погубившей после революции 1917 г. миллионы людей; преемником ВЧК стал впоследствии КГБ – Комитет Государственной Безопасности).
[Закрыть].
Однако никто не отодвинулся ни на шаг.
Рядом тёмной громадой высился кощеев замок[70]70
Огромное, уходящее вглубь кварталов здание КГБ на Лубянской площади.
[Закрыть]. Толстые шторы на окнах слегка шевелились – это кощеевы слуги подглядывали за происходящим на площади. За шторами метались крохотные огоньки и тени – кощеевы слуги, боясь зажигать свет, передвигались по комнатам и этажам то ли со свечами, то ли с фонариками.
– Гэбисты бумаги уничтожают, – сказал кто-то.
Несколько человек из толпы, подёргав массивные двери, злорадно крикнули:
– Заперлись изнутри, гады! Нас испугались!
Кран осторожно стал опускать висящего на землю.
Конечно, это был не Кощей. Но и не просто памятник. Тонкий, длинный, как игла в яйце света, Чёрный Железный Человек и был Иглой из Яйца, разломи которую – рухнет угрюмое кощеево царство.
Ставший реальностью многолетний миф завершался, как ему и было положено. По законам мифа.
И завершался именно где положено: на Главной Театральной сцене страны – Лубянке, устрашающе реальной и иллюзорно сакральной, с кровавыми жертвоприношениями и карнавальной ярмаркой «Детского мира» тут же, по соседству.
И каждый из сотен тысяч пришедших сегодня на площадь был былинный герой. И в самой толпе было что-то карнавальное, театральное, как театральными были три предыдущих дня битв с одряхлевшей за годы кощеевой ратью.
Как и положено в эпосе, – три дня.
Три дня длился похожий на фарс нелепый путч кощеевой мелкоты, коварным обманом спрятавшей в темницу законного правителя[71]71
Президента СССР Михаила Горбачёва.
[Закрыть] за то, что отказался быть Кощеем, хоть и был им немного – по привычке, да не в полную меру, и шестой год теснил кощеевых людей. Решили те вернуть власть – и двинули армию для устрашения разболтавшейся черни, дабы восстановить прежний безгласный порядок, но испугались своей смелости и всенародного непослушания, которого не ожидали, переругались, начали отдавать разноречивые приказы. Один из главных вовсе напился в стельку, самоустранившись в пьяное забытьё.
Три дня длилось эпическое противостояние злодеям – «всем миром». И былинным богатырём стал каждый третий. И победили богатыри постылых злодеев, рассеяли их рать, выбрали нового правителя[72]72
Бориса Ельцина.
[Закрыть], вызволили прежнего, и пошли на Главную Театральную площадь Лубянку к кощееву замку – закулисью Главного Театра Империи: тут семьдесят лет плелись интриги, писались мрачные сценарии, ставились кровавые пьесы – и тиражировались до Карпат и Сахалина, до Каспийского моря и Белого, и дальше-дальше, за рубежи Империи, которая вся была большим зрительным залом, где силком держали зрителей, заставляя кричать «Бис!», а кто этого не делал, того бросали в темницу.
Душой этого Театра, его символом, залогом его вечной жизни, его Хранителем был Чёрный Железный Человек. Как чеховская чайка на МХАТовском занавесе. Потому, придя на Главную Театральную площадь страны, богатыри первым делом сдёрнули с постамента Чёрного Железного Человека – ничем другим не мог кончиться этот длившийся десятилетия и изрядно наскучивший всем спектакль.
И был август 1991-го.
Если бы когда-нибудь давным-давно кто-то заранее рискнул бы составить к этому многолетнему спектаклю программку с кратким описанием актов, то финальная сцена на Лубянке была бы там точно такой же.
– Как символично, – прошептала Соня Осе, – он, оказывается, ничем не закреплён, стоял только под действием собственной тяжести. Давил на постамент – вот и стоял. Как и вся советская власть… как и её лидеры… только силой давления держались… силой давления на постамент – на нас… а качни посильнее…
Рука крана приблизилась к земле. Чёрный Железный Человек лежал поверженный.
Серый купол Театра, оказавшийся картонным, растворился в ночной влаге, растаял – и за ним открылось звёздное небо.
Воздух был напоён озоном. Свежий ветер нёс запахи дальних морей и стран, отзвуки смеха, разноязыкой речи. Будто то, что десятилетиями было заколдованным архипелагом и лежало где-то за географическими пределами, вдруг соединилось с Большой Землёй. Стало нормальным – таким, каким должно быть: живым и естественным.
Под ногами лежала новая страна, освобождённая от злых чар. Вокруг было лето.
Пустота на месте памятника тоже пахла по-особому. Свободой и возможностями. Как квартира без мебели. «Пустота всегда сулит свободу и возможности, жизнь с белого листа, – подумала Соня. – Чем захочешь – тем и заполнишь, как пожелаешь – так и будет. Ничто ничем не обусловлено кроме собственной воли».
Однако воли рядом стоящих и дальних уже готовились вступить в новую схватку за «правильное» наполнение образовавшейся пустоты, – и эта схватка опять разведёт людей по разные стороны. Только сторон уже будет не две, а значительно больше, и не любой найдёт вообще где-либо себе место.
Но сегодня, сейчас все дышали одинаково легко – эйфория победы сделала на время каждого победителя хозяином своей жизни. Это завтра он станет думать о том, как управиться с беспокойным хозяйством. А сегодня, сейчас он просто ликовал. Бездумно. Всем существом. По-детски. Как ликует в первые минуты от неожиданной лёгкости бытия каторжник, скинув тяжёлые цепи.
– Тебе не холодно? Домой придётся идти пешком, транспорт уже не работает, – Ося приобнял Соню. – Денег на такси у нас нет.
– Ничего, мы давно не гуляли по Москве ночью. К рассвету дойдём.
И они, обнявшись, медленно пошли по ночной Москве – к рассвету, улыбаясь встречным, а те улыбались им.
– Кончилась моя героическая пятилетка! – сказала с облегчением Соня. – Теперь никаких битв! Заживём нормальной простой жизнью, как мы с тобой всегда мечтали, но не получалось – мешали… Я буду пироги печь. Хочешь пироги? По воскресеньям станем устраивать торжественные обеды, звать гостей. Брошу к чёртовой матери политику. У меня есть новая глобальная идея!
– У тебя все идеи глобальные. А пироги… это так неглобально! – Ося засмеялся.
– Пироги с моей идеей уживутся. Я же не феминистка! И я люблю тебя, – Соня потерлась об Осю, сунула голову ему подмышку.
– Я тоже, – с чувством сказал Ося и крепче обнял Соню.
– Удивительно: восемнадцать лет мы вместе, я столько всего и всех сменила за это время, а ты мне ничуть не наскучил. Ничуть! Я даже ещё больше люблю тебя. И бесконечно восхищаюсь. Это так здорово, что восхищаюсь! Знаешь, я ни разу за все годы в тебе не разочаровалась. В каждом хоть разок да разочаровалась, снизила планку, стала по-другому себя вести… а с тобой – нет… ты особенный! чудесный!
– Ты сама чудесная, – застеснялся Ося. – А помнишь, что нас дома ждёт? Недопитый мускат, недоеденные персики и арбуз… Не дали насладиться первыми днями отпуска, козлы!
– Стухли, небось, персики, и арбуз высох, – вздохнула Соня. – Хорошо, что мускат не киснет.
Они медленно шли, и болтали то о ерунде, то о серьёзном, и целовались то на ходу, то останавливаясь для этого. И было им не за сорок, а снова чуть за двадцать, и впереди была счастливая жизнь.
– Может, рано радуемся? Всё ещё может вернуться к прежнему…
– Нет, это перелом, – убеждённо сказала Соня. – Они выдохлись. Теперь будет совсем по-другому. Как никогда не было. Нет, не безоблачно, не беструдно… может, даже будут более трудные трудности, но всё равно более лёгкие… потому что естественные, человеческие, как у большинства людей во всём мире, а не искусственно уродские. Ведь их поганая идеология нарушала все причинно-следственные связи. Жили, как в сумасшедшем доме! Чтоб остаться нормальными, сопротивлялись, геройствовали. Это ведь про советских людей, пели: «У нас героем становится любой»… вынужденно становится. Проговорились в песне – и не заметили. Правда, некоторым нравится быть профессиональными героями – как в сказке Шварца, помнишь? Так самореализуются, когда больше ничего не умеют. А у нас с тобой есть много другого, чем мы хотим и можем заниматься. Необходимость быть при этом ещё и героем как раз-таки мешает… силы не на то расходуются. Мы с тобой – не из породы борцов. Мы из строителей. Только ты тише, я громче… кавказская кровь шумит. Но я, как и ты, не люблю воевать… хотя умею.
– Это ты-то не любишь, мать-командирша, полководец Соня?
– Не тебе говорить. С тобой я воевала, что ли?
– Слава богу, не со мной. Я бы не выжил, – засмеялся Ося. – А скольких сборола!
– Так сволочей же! Чтоб не мешали нормальным людям нормально жить.
– Д-да, страшнее мыши зверя нет! – хихикнул Ося.
То ли от Леона это пошло, то ли мышиность остренькой плутоватой мордочки была тому причиной, но у Сони среди своих было прозвище «Мышь». Часто в транспорте или в магазине Ося забывался и окликал Соню по-домашнему:
– Мышь!
Народ шарахался. Ося с Соней хохотали.
– Ой, Ося, я чувствую, предощущаю эту новую счастливую жизнь впереди, где всё по-другому! И мы сами такие, какими задуманы…
Впрочем, счастливая жизнь была и позади. Только протекала она в чужом пространстве. От него надо было всё время защищаться… и защищать ближних… и то, что дорого. Чтобы сохранить и сохраниться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































