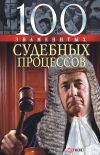Текст книги "Helter Skelter. Правда о Чарли Мэнсоне"

Автор книги: Курт Джентри
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 46 страниц)
1–19 ноября 1970 года
За день до направления Уотсона в Атаскадеро два назначенных судом психиатра заключили, что состояние семнадцатилетней Дайаны Лейк позволяет ей давать показания в зале суда.
После успешного окончания лечения в клинике Паттона Дайане сообщили добрую весть: следователь из округа Инио Джек Гардинер и его супруга, которая подружилась с девушкой после ее ареста на ранчо Баркера, назначены ее приемными родителями. Ей предстоит жить в их семье до окончания школы.
Правда, из-за правила Аранды Лейк не могла рассказать присяжным, что Текс приказал Лесли Ван Хоутен ударить ножом Розмари Лабианку, а позднее стереть отпечатки пальцев со всех предметов, которых они касались, ведь Дайана знала об этом со слов Кэти, и любые упоминания о подельниках следовало вырезать.
Девушка могла дать показания лишь о признаниях самой Ван Хоутен; впрочем, и здесь имелась небольшая проблема: Лесли не говорила Дайане, кого ударила ножом. Она рассказала, что била ножом чье-то уже мертвое тело; было это неподалеку от парка Гриффита, и снаружи находилась лодка. Я надеялся, присяжные сделают единственно возможный вывод: Ван Хоутен говорила о чете Лабианка. Дайана показала также, что как-то утром в августе Лесли вошла в дом на заднем дворе ранчо Спана и сожгла дамскую сумочку, кредитную карту и собственную одежду, оставив лишь мешочек с монетами, которые девушки поделили и потратили на продукты. Правда, она не смогла назвать точную дату, и я мог только рассчитывать, что присяжные свяжут факты с убийством четы Лабианка, ведь твердых доказательств у нас не было.
Именно показания Дайаны оставались единственной уликой (независимой от рассказа Линды Касабьян), которая привязывала Лесли Ван Хоутен к убийствам на Вейверли-драйв, поэтому наше дело против нее заметно пошатнулось, когда на перекрестном допросе Дайана призналась Хьюзу, что не уверена, то ли Лесли рассказала ей о лодке, то ли она сама прочла о ней в газетах.
Хьюз также сосредоточился на различных мелких расхождениях ее показаний со сделанными ранее заявлениями (Дайана говорила Сартучи, что монеты были в сумочке, тогда как я услышал версию с пластиковым пакетом) и на том, что могло произвести настоящий разгром представленных обвинением улик.
На прямом допросе Дайана говорила, что деньги разделили поровну она сама, Маленькая Патти и Сандра Гуд. Если Сэнди присутствовала при разделе монет, тогда это не могло происходить утром 10 августа, после совершения убийств супругов Лабианка, – поскольку тогда Сандра Гуд и Мэри Бруннер все еще находились в заключении. Так или иначе, но на дальнейшие вопросы Дайана ответила, что Сэнди там могло и не быть.
В своей части перекрестного допроса Канарек довел до сведения присяжных, что сержант Гутиэрес пригрозил Дайане газовой камерой. Фитцджеральд же привел сделанное ранее противоречащее заявление свидетеля: выступая перед большим жюри, Дайана говорила, что 8 и 9 августа находилась в округе Инио, а не на ранчо Спана.
На повторном допросе я спросил у Дайаны:
– Почему вы солгали большому жюри?
– Потому что боялась говорить правду. Я думала, если расскажу все, как было, то меня убьют участники «Семьи». И Чарли просил не… приказал мне ничего не говорить людям, наделенным властью.
Сержант Гутиэрес в поисках чашки кофе забрел 4 ноября в комнату отдыха присяжных, где подсудимые девушки проводили перерывы в заседаниях. Он нашел желтую официальную папку, помеченную именем Патриции Кренвинкль. Среди заметок и рисунков Кэти трижды написала слова «healter skelter» – совершив в точности ту же орфографическую ошибку, что и в надписи на дверце холодильника в доме Лабианка.
Олдер, однако, не дал мне воспользоваться рисунком как вещдоком. Я убеждал его, что сделанные рукой Кэти надписи имеют прямое отношение к делу и могут считаться косвенной уликой. Но судья решил иначе.
Еще раз Олдер невольно потрепал мне нервы, когда я заявил об отказе Кренвинкль написать те же слова печатными буквами. Судья внезапно решил дать Патриции еще один шанс подчиниться и предложил устроить соответствующую экспертизу, ставя под удар весь мой удачный блеф. Если Кренвинкль по совету адвоката написала бы требуемое, нас ждали серьезные проблемы.
Но Кэти отказалась вторично, причем следуя совету Пола Фитцджеральда!
Очевидно, ее адвокат не понимал, насколько графологам сложно (если возможно вообще) сравнить две короткие надписи печатными буквами. Если бы графологи из ДПЛА потерпели неудачу, по закону Патрицию Кренвинкль пришлось бы признать невиновной в убийстве четы Лабианка. Ее отказ предоставить экземпляр почерка был единственной крупицей независимых улик, которые поддерживали показания Касабьян относительно участия Кренвинкль в этих преступлениях.
У Кэти был превосходный шанс выбраться сухой из воды. И по сей день я не могу понять, отчего адвокат посоветовал ей отказаться от участия в экспертизе и тем самым лишил ее этого шанса.
Двумя последними свидетелями обвинение вызвало докторов Блейка Скрдлу и Гарольда Диринга – психиатров, которые обследовали Дайану. Во время прямого и повторного допросов я получил от них показания, сводившиеся к одному: оставаясь сильнодействующим наркотическим средством, ЛСД никак не отражается на памяти; более того, не существует никаких медицинских данных о том, что прием этого наркотика ведет к разрушению мозга или расстройству его функций. Так мы отмели обвинения защиты, будто сознание наших свидетелей (в особенности Линды и Дайаны) настолько искажено приемом ЛСД, что они не отличают фантазий от реальности.
Доктор Скрдла показал, что люди, принявшие ЛСД, способны увидеть разницу между предметами реальными и кажущимися; часто чувствительность у них даже обостряется. Прием ЛСД вызывает скорее иллюзии, чем галлюцинации: наблюдаемый предмет находится там, где человек его видит, только восприятие предмета меняется. Многих показания врача изрядно удивили, поскольку ЛСД называют именно галлюциногенным препаратом.
Когда на мои вопросы отвечал Пол Уоткинс, я лично прояснил тот факт, что еще в юности (сейчас ему было 20 лет) он принимал ЛСД от 150 до 200 раз. Тем не менее, как наверняка заметили присяжные, Пол был одним из наиболее ярких свидетелей обвинения и прекрасно выражал свои мысли. Скрдла также заметил:
– Мне приходилось встречать людей, принимавших этот препарат несколько сотен раз без малейших признаков нарушений эмоциональной сферы – если в момент наблюдения они не находились в состоянии наркотического транса.
Фитцджеральд спросил у Скрдлы:
– Может ли прием больших доз ЛСД на протяжении ограниченного периода времени сделать человека чем-то вроде зомби или разрушить его рациональное мышление?
Если, как я подозревал, Фитцджеральд пытался заложить фундамент для защиты, построенной вокруг этого предположения, тот развалился, едва врач произнес:
– С таким мне сталкиваться пока не доводилось.
Доктор Диринг выступал последним. Он закончил давать показания в пятницу, 13 ноября. Бульшую часть следующего понедельника (16 ноября) обвинение представляло суду вещественные доказательства правоты Народа. Всего набралось 320 отдельных экспонатов, и Канарек встретил протестом появление каждого, начиная от револьвера 22-го калибра и заканчивая масштабным планом усадьбы Тейт. Больше всего он возражал против включения в вещдоки цветных фотографий тел убитых. В ответ я сказал:
– Разумеется, изображения жестоки и натуралистичны, спорить не приходится, но дело обстоит таким образом, что подсудимые и есть те люди, которые совершили убийства и несут ответственность за жестокость и ужас случившегося. Фотографии запечатлели дело их рук. И присяжные должны иметь возможность взглянуть на это дело.
Судья Олдер согласился со мной, и снимки приобщили к делу.
Один из экспонатов так и не попал на стол для вещдоков. Как отмечалось ранее, на брошенной убийцами одежде, которую они носили в ночь убийств на Сиэло-драйв, обнаружилась белая собачья шерсть. Экономка Винифред Чепмен говорила мне, что они похожи на шерсть собаки, принадлежавшей Шэрон. Но на просьбу доставить улику в зал суда из хранилища вещдоков ДПЛА я получил лишь отговорки. В итоге оказалось, что один из следователей «группы Тейт», переходя улицу к Дворцу юстиции, уронил и разбил стеклянную пробирку с шерстинками. По его признанию, удалось сохранить только один волосок. Но я решил обойтись без него: уж слишком явно тут напрашивалось выражение «дело висит на волоске».
В 16:27 понедельника – ровно через двадцать две недели после начала процесса и за два дня до годовщины моей приписки к делу – я произнес:
– Ваша честь, Народ штата Калифорния закончил.
В заседании назначили перерыв до четверга, 19 ноября, когда были рассмотрены и отклонены стандартные прошения каждого адвоката о прекращении судопроизводства по делу.
В декабре 1969 года множество адвокатов предсказывали, что к этой стадии процесса Мэнсон окажется на свободе просто за недостаточностью улик.
Сомневаюсь, что теперь так считал хотя бы один юрист в стране, включая и самих адвокатов защиты.
Судья спросил:
– Готова ли защита начать выступление?
– Да, Ваша честь, – отозвался Фитцджеральд.
– Можете вызвать своего первого свидетеля, – предложил Олдер. Фитцджеральд:
– Благодарю, Ваша честь. Подсудимые закончили.
Почти всех присутствующих эта фраза застала врасплох. Даже судья Олдер на несколько минут потерял дар речи. В процессе по уголовному делу основной вопрос заключается не в том, виновен или не виновен подсудимый (как полагает большинство). Вопрос звучит так: сумела ли сторона обвинения выполнить юридическую задачу и доказать вину подсудимого за пределами разумных сомнений и моральной уверенности[120]120
В уголовном праве Америки официальное понятие «не виновен» не является абсолютным синонимом невинности подозреваемого. «Не виновен» – сделанный присяжными официальный вывод, основанный на их мнении, что обвинение не смогло доказать своей правоты. – Примеч. авт.
[Закрыть].
Очевидно (хоть и неожиданно), защита решила избежать нового раунда перекрестных допросов и положиться на мнение, что мы не сумели доказать вину Мэнсона и его соответчиц за пределами разумных сомнений, а значит, адвокаты по делу ждут вынесения вердикта «не виновны».
Самый крупный сюрприз, однако, был еще впереди.
Часть 7
Ветер убийств[121]121
Перифраз названия одной из песен Боба Дилана – «Blowin’ In the Wind».
[Закрыть]
Просто в воздухе носилось что-то, понимаете. Что-то носилось в воздухе.
Хуан Флинн
Мы еще позаботимся о стукачах и остальных врагах.
Сандра Гуд
Прежде чем исчезнуть, Рональд Хьюз, пропавший адвокат защиты на суде по делу об убийствах Тейт – Лабианка, признался близкому другу, что боится Мэнсона.
«Лос-Анджелес таймс»
19 ноября – 20 декабря 1970 года
Когда Фитцджеральд объявил, что подсудимые закончили, все три подсудимые девушки завопили, что хотят дать показания.
Созвав совещание сторон в кулуарах, судья Олдер потребовал объяснить ему ситуацию.
Между адвокатами защиты и их клиентами возникли некоторые разногласия, сказал Фитцджеральд. Девушки намеревались выступить, но адвокаты противились этому и хотели завершить изложение доводов защиты, не начиная.
Бурные дебаты продолжались не менее часа, и только тогда проявилась истинная причина размолвки. Фитцджеральд сделал признание, не занесенное в стенограмму: Сэди, Кэти и Лесли хотели показать под присягой, что они сами спланировали и совершили убийства, а Мэнсон тут вовсе ни при чем!
Чарли хотел взорвать эту бомбу немедленно, но адвокатам удалось оттянуть катастрофу, хоть и ненадолго. Впервые открыто противясь Мэнсону, Рональд Хьюз заявил:
– Я отказываюсь принимать участие в таком судопроизводстве, где от меня требуют вытолкнуть клиента из окна.
Возникшие правовые проблемы были внушительны, но в основном сводились к главному вопросу: что первично – право на квалифицированную помощь юриста или право давать показания? Опасаясь, что любой из выбранных Олдером ответов могут позже счесть судебной ошибкой, я предложил обратиться за разъяснением в Верховный суд штата. Но Олдер решил, что право голоса в суде, даже если адвокаты советуют клиентам воздержаться от дачи показаний, обладает превосходством над всеми прочими правами. Девушкам позволят дать показания.
Олдер спросил у Мэнсона, не желает ли он тоже выступить.
– Нет, – ответил Чарли и, подумав немного, добавил: – Во всяком случае, не сейчас.
По возвращении в зал суда Канарек подал прошение отделить дело Мэнсона от процесса остальных подсудимых.
Теперь Чарли пытался покинуть тонущий корабль, предоставив девушкам спасать свои жизни самостоятельно. Отклонив прошение Канарека, Олдер пригласил присяжных и позволил Сьюзен Аткинс занять свидетельское место и принести присягу. Дэйи Шинь, впрочем, не стал задавать ей вопросы, пояснив, что сама формулировка заготовленных Сьюзен вопросов изобличает ее[122]122
Замечания Шиня, не менее прямо уличающие Сьюзен, позднее были удалены из стенограммы. – Примеч. авт.
[Закрыть]. В результате появилась новая проблема. Вернувшись в кулуары, Олдер отметил:
– Мне становится совершенно ясно, что весь этот маневр защита провела просто для того, чтобы исказить ход процесса… Я не собираюсь вам потворствовать.
По-прежнему в отсутствие присяжных Сьюзен Аткинс заявила судье:
– Я хочу рассказать, как все было. Как я сама это видела.
– А вы понимаете, что тогда подвергнете себя опасности? – уточнил Олдер. – Всего несколько слов, и вы сами подпишете себе приговор.
– Я понимаю, – заверила Аткинс. – Пусть меня приговорят, исходя из правды. Я не хочу, чтобы меня осудили, опираясь на кучу лжи, вырванной из контекста и рассыпанной как придется. Потому что, мистер Буглиози, ваше здание трещит по швам. Я сама видела, как пошли трещины. Подлый ты, хитрый лис!
– Зачем же помогать мне подпереть эту развалину, Сэди? – возразил я. – Радовалась бы. Если обвинение рухнет, ты вернешься на ранчо Баркера. Зачем выступать в суде, чтобы помочь мне?
Шинь предупредил, что если Олдер прикажет ему задавать вопросы клиентке, он немедленно снимет с себя обязанности адвоката подсудимой. Фитцджеральд вторил ему:
– Насколько я понимаю, это будет похоже на подстрекательство к самоубийству – а затем и на само убийство.
Когда в заседании объявили перерыв, суд еще не пришел к окончательному решению.
На следующий день Мэнсон удивил всех, заявив, что он тоже желает выступить. Фактически он намеревался занять место свидетеля самым первым. Но из-за возможных проблем с Арандой ему предложили сначала произнести свою речь без присяжных.
Мэнсон принес присягу. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы Канарека, он собирался сделать заявление.
Чарли говорил больше часа. Начал он почти извиняющимся тоном, так тихо, что поначалу публике в заполненном зале суда приходилось тянуться вперед, чтобы расслышать слова. Но уже несколько минут спустя голос его изменился, окреп, в нем появился внутренний стержень, и вместе с тем изменилось и лицо Чарли, как мне уже случалось видеть во время наших бесед. Ничтожество, мученик, проповедник, пророк – Мэнсон становился всеми ими и множеством других масок. Метаморфоза часто происходила прямо посреди фразы, и лицо Чарли служило экраном, по которому быстрыми тенями скользили эмоции, пока там не замелькал целый калейдоскоп разных лиц: каждое вполне настоящее, но возникающее лишь на долю секунды.
Чарли невнятно бормотал, делал отступления, повторялся, но в его речи действительно было нечто гипнотическое. Он словно пытался наложить на слушателей странные чары; подобным же образом ранее ему удавалось околдовать наиболее впечатлительных своих сторонников.
– Меня много в чем обвиняли, – говорил Мэнсон, – многие высказывались обо мне и моих соответчиках по этому делу, перед нами выставили немало фактов, большинство из которых можно попытаться объяснить и очистить от словесной шелухи…
Я никогда не ходил в школу, а потому так по-настоящему и не научился читать и писать. Меня посадили в тюрьму, и я остался глупым, остался ребенком и наблюдал со стороны, как весь ваш мир понемногу взрослеет, – и вот теперь я смотрю на вещи, которые вы делаете, и не понимаю…
Вы едите мясо и убиваете созданий, которые лучше вас самих, а потом ужасаетесь, какими плохими стали ваши дети, обзываете их убийцами. Это вы сделали своих детей тем, что они есть…
Дети, что идут на вас с ножами, – они ваши дети. Вы научили их всему, что они знают. Не я обучал их. Я просто помог им подняться на ноги.
Большинство людей, живших на ранчо, – тех, кого вы зовете «Семьей», – они вам просто были не нужны; это люди, которые оказались на обочине, которых прогнали родители, которые не хотели жить в толпе. Поэтому я сделал для них все, что было в моих силах, – я забрал их в глушь, на свою свалку, и вот что я сказал им: в любви не существует понятия «плохо»…
Я сказал им: все, что они делают для своих братьев и сестер, хорошо, если это делается с мыслью о хорошем…
Я вычищал грязь, делал уборку, которой следовало бы заняться Никсону. Он должен был постоять на этой стороне дороги, попытаться собрать своих детей вместе, – но нет, его там не было. Он сидел в Белом доме и посылал их воевать…
Я не понимаю вас, но и не стараюсь понять. Я никого не пытаюсь судить. Я знаю, что могу судить только одного человека: себя самого… Но одно мне известно точно: в своем сердце, в своей душе каждый из вас не меньше виноват во Вьетнамской войне, чем я – в смерти этих людей…
Мне не дано судить никого из вас. Я не точу зуб, не таю вражды к вам. Но, сдается мне, настало время, когда всем вам придется взглянуть на самих себя и осудить ту ложь, в которой вы погрязли.
Я не могу испытывать к вам неприязни, но вот что я скажу: совсем скоро вы начнете убивать друг друга, потому что все вы – безумцы. Можете отразить, спроецировать на меня эту свою злобу… Но я – лишь то, что живет внутри каждого из вас.
Меня породила тюрьма. Меня породила вся ваша система… Я лишь то, чем вы меня сделали. Я ваше отражение, и ничего больше.
Я питался отбросами из ваших мусорных баков, чтобы снова не угодить в тюрьму. Я носил обноски с вашего плеча… Я изо всех сил старался приспособиться к вашему миру, и теперь вы хотите убить меня. Вот я гляжу на вас и говорю себе: хотите убить меня? Ха! Я давно уже мертв. Всю свою жизнь я мертвец. Я провел двадцать три года в построенных вами гробницах.
Порой я задумываюсь, не вернуть ли должок; иногда мне кажется, что лучший выход – броситься на вас и позволить пристрелить себя… Если бы я только мог, то оторвал бы этот микрофон и колотил бы им по вашим головам, пока мозги не полезли бы наружу, потому что именно этого вы и заслуживаете.
Будь у меня хоть капля злости, я постарался бы убить каждого из вас. Если в этом и есть моя вина, я принимаю ее…
А эти дети – они действовали только из любви к своему брату…
Когда я показал им, что сделаю ради своего брата все что угодно, в том числе отдам за него свою жизнь на поле битвы, они подняли это знамя и ушли от меня, и сделали то, что сделали. Поэтому я не несу ответственности за их поступки. Я не указываю людям, что им делать…
Эти дети [указывая на подсудимых девушек] искали самих себя. То, что они якобы сделали, – это их поступки. И пусть они сами вам объясняют, зачем поступили именно так…
Главное тут – ваш собственный страх. Вы ищете, на чем можно его выместить, и выбираете маленького старого попрошайку, ничтожество, которое питается мусором, которое никому не нужно, которое выкинули даже из исправительной колонии, которое прошло через все вообразимые круги ада, – и вы хватаете его и сажаете на скамью подсудимых.
Вы ждете, чтобы я сломался? Не выйдет! Вы сломали меня много лет назад. Вы давным-давно убили меня…
Олдер спросил, не хочет ли Мэнсон что-нибудь добавить.
Чарли ответил:
– Я никого не убивал и я никого не приказывал убить. Может статься, я действительно несколько раз намекал разным людям, что я могу быть Иисусом Христом, но я сам еще не решил для себя, кто я такой или что такое.
Кое-кто звал меня Христом. В тюрьме именем мне служил номер. Кому-то нужен изверг-садист, поэтому они видят меня таким. Да будет так. Виновен. Не виновен. Это лишь слова. Вы можете сотворить со мной что угодно, но не сможете даже дотронуться до меня, ибо я – это всего только моя любовь… Если меня снова посадят в тюрьму, ничего не изменится, потому что из предыдущей меня выгнали пинками. Я не просил вас освобождать меня. Я люблю сидеть за решеткой, потому что люблю себя самого.
– Кажется, вы отвлеклись от основной мысли, – заметил Олдер и попросил Чарли придерживаться вопросов, имеющих отношение к процессу.
– Вопросов?.. Мистер Буглиози – целеустремленный обвинитель с прекрасным образованием, мастерски владеющий речью, семантикой. Он гений. У него есть все, о чем только может мечтать любой юрист, кроме единственной вещи: состава преступления. У него нет дела как такового. Если бы мне было разрешено выступить в качестве собственного адвоката, я смог бы доказать вам это…
Вещественное доказательство в уголовном деле – револьвер. Этот револьвер валялся на ранчо. Он принадлежал всем и каждому. Любой мог бы взять его и сделать все, что заблагорассудится. Я не отрицаю, что владел этим револьвером. Он много раз бывал у меня руках. Как и веревка, она тоже с ранчо. – Конечно, он купил веревку, признал Мэнсон, целых 150 футов: – Потому что веревка всегда пригодится на ранчо.
Одежда?
– Очень удобно вышло, что мистер Баггот сумел найти ее. Подозреваю, он неплохо заработал на находке.
Пятна крови?
– Ну, это не совсем пятна крови. Всего лишь бензидиновая реакция. Кожаная тесемка?
– Сколько человек носят мокасины с кожаной шнуровкой?
Фотографии семи мертвых тел, 169 ножевых ранений?
– Они выставляют трупы в ужасном состоянии на всеобщее обозрение и намекают: смотрите, что будет с вами, если он останется на свободе.
Helter Skelter?
– Это выражение обозначает путаницу, неразбериху. Так и есть, в буквальном смысле. Это сочетание букв не подразумевает, что одни люди намерены убить других людей… Helter Skelter – путаница. Все вы здорово запутались, и вскоре путаницы вокруг станет еще больше. Если вы отказываетесь ее замечать, тогда называйте ее как угодно.
Заговор?
– Разве это заговор – когда музыка призывает молодежь восстать против истеблишмента, потому что люди истеблишмента разрушают все вокруг и делают это все быстрее и быстрее? Какой же это заговор? Музыка говорит с вами ежедневно, но вы слишком глухи, немы и слепы, чтобы даже просто услышать ее… Это не мой, это чужой заговор. Это не моя музыка. Я лишь слышу все, что она несет. Она говорит: «Восстань», она говорит: «Убей». Зачем винить меня? Не я писал эту музыку.
Дальше Чарли высказался о свидетелях:
– Например, Дэнни Де Карло. Он говорит, что я ненавижу чернокожих, и мы с ним в этом сходимся… Но единственное, что я сделал с Дэнни, как и с любым другим, – показал ему, как в зеркале, его самого. Когда он говорил, что недолюбливает чернокожих, я отвечал ему: «Ага». И он принимался за следующую банку пива с мыслью: «Чарли думает совсем как я». Но на самом-то деле он понятия не имеет, что там в голове у Чарли, потому что Чарли никогда не выставлял себя напоказ.
Я думаю иначе, чем остальные люди. Вы слишком много значения придаете собственной жизни. Ну а моя жизнь ни для кого не была важна…
Линда Касабьян, по словам Мэнсона, дала показания против него только потому, что видела в нем своего отца, а отец никогда ей не нравился.
– Поэтому она встает здесь и заявляет, будто она, заглянув в глаза умирающему, поняла, что это моя вина. Она так решила, потому что не в силах была встретиться со смертью. Но если она не может видеть смерть, при чем тут я. Я-то могу. И делал это постоянно. В тюрьме смерть входит в жизнь каждого, он вынужден существовать в постоянном страхе смерти, потому что тюрьма – мир жестокий, и волей-неволей приходится всегда быть начеку.
О Дайане Лейк Мэнсон сказал, что ей хотелось внимания. Она притягивала к себе неприятности, жаждала их, устраивала нелепые выходки, мечтая, чтобы отец ее наказал:
– Поэтому, как всякий отец, я усмирял ее сознание болью, чтобы она не подожгла в итоге все вокруг.
Да, жившим на ранчо юношам и девушкам он приходился отцом. Но лишь в том смысле, что обучал их не быть слабыми и не полагаться на него. Полу Уоткинсу тоже был нужен отец.
– Я сказал ему: «Чтобы стать мужчиной, парень, тебе придется подняться, выпрямиться и самому стать себе отцом». Но он сбежал в пустыню и там нашел образ отца в Поле Крокетте.
Да, признал Чарли, он приставлял нож к горлу Хуана Флинна и говорил ему, что ответственен за все эти убийства:
– Я действительно чувствую ответственность. Я чувствую свою ответственность за загрязнение окружающей среды, за все происходящее.
Мэнсон даже не отрицал, что велел Бруксу Постону взять нож и пойти убить шерифа города Шошон:
– Я не знаком с тамошним шерифом. Я не говорю, будто не произносил этих слов, но если я и сказал их, в тот момент убийство этого человека могло казаться мне неплохой идеей.
Если начистоту, я вообще не помню, чтобы говорил когда-нибудь: «Возьми нож и смену одежды. Иди с Тексом и делай все, что он скажет». Я даже не помню фразы «пойди и убей шерифа».
На самом же деле я выхожу из себя, когда кто-то лишает жизни змею, собаку, кошку или лошадь. Я и мясо не особенно люблю; вот до какой степени я противлюсь убийству…
На мне нет никакой вины, потому что я не умею видеть что-либо в дурном свете… Я всегда повторял: делайте то, что велит вам ваша любовь, и сам поступаю так, как подсказывает мне собственная любовь… Разве моя вина в том, что ваши дети повторяют то, что уже сделано вами?
Как же насчет ваших детей? – с негодованием вопросил Мэнсон, слегка приподнимаясь со свидетельского места, словно готовясь рвануться вперед и наброситься на любого из находящихся в зале суда. – Вы говорите, что их всего несколько? Их гораздо, гораздо больше, и все они движутся в одном направлении. Они бегут по улицам, и они спешат прямо сюда, чтобы разделаться с вами!
Я задал Мэнсону всего несколько вопросов, ни один из которых не значился в тетрадях, которые я вел специально для этой цели.
– Вы говорите, что уже мертвы. Это верно, Чарли?
– Я считаю, что мертв, или это вы считаете меня мертвым?
– Дайте любое определение, по вашему желанию.
– Как скажет любой ребенок, мертвый – это когда тебя больше нет. Когда ты больше не здесь. Если тебя нет, это значит, что ты мертв.
– И давно вы мертвы?
Мэнсон уклонился от прямого ответа.
– Если приводить точные цифры, – продолжал я, – вы полагаете, что мертвы около двух тысяч лет, не так ли?
– Мистер Буглиози, две тысячи лет понятие относительное, особенно по меркам того единственного мига, в котором мы живем.
– Другими словами, зал судебных заседаний номер 104 далек от Голгофы, я правильно понял?
В ответ Мэнсон заявил, что не желает ничего иного, кроме как забрать своих детей и вернуться с ними в пустыню. Напомнив ему, что единственные люди, которые могут его освободить, чтобы он могли удалиться в пустыню, это двенадцать присяжных, я задал новый вопрос:
– Мистер Мэнсон, готовы ли вы выступить перед присяжными и повторить им все то, что говорили сегодня в суде?
Канарек выразил протест. Олдер удовлетворил его, и на этом я закончил свой перекрестный допрос.
К моему удивлению, судья позднее поинтересовался, отчего я не задавал Мэнсону серьезных, действительно весомых вопросов. Мне-то казалось, что причина очевидна. Я подготовил огромное множество вопросов, которые хотел задать Чарли, несколько мелко исписанных тетрадок, – но я задал бы их лишь в присутствии присяжных. Пока Мэнсон не занял свидетельское место перед ними, я не собирался дать ему шанс «потренироваться в сухом бассейне».
Тем не менее, когда Олдер еще раз спросил, не желает ли Чарли выступить теперь перед присяжными, тот ответил:
– Я уже успел высказать все, что накопилось.
Мэнсон поднялся из-за свидетельского стола и прошел мимо стола для совещаний адвокатов с подсудимыми; я расслышал его обращенную к девушкам реплику: «Теперь вы не обязаны выступать».
Любопытно, что он понимал под словом «теперь»? Я подозревал, что Мэнсон отнюдь не сдался, а лишь выигрывает время.
После того как защита представила присяжным свои вещественные доказательства, судья Олдер отложил следующее заседание на десять дней, чтобы дать адвокатам время на подготовку речи перед присяжными и инструкций для них.
Поскольку это был его первый процесс, Рон Хьюз прежде никогда не выступал перед присяжными и не принимал участия в составлении инструкций, которые судья дает им перед самым началом совещания. Очевидно, он ждал этого с нетерпением. Ведущему программы теленовостей Стэну Эткинсону он признался, что убежден: ему под силу добиться оправдательного вердикта для Лесли Ван Хоутен.
Однако Рон не получит ни единого шанса даже попытаться.
Когда в понедельник, 30 ноября, процесс был возобновлен, Рональд Хьюз не явился на заседание.
Олдер опросил остальных адвокатов защиты, но ни один из них не знал, куда девался коллега. Фитцджеральд сказал, что говорил с ним в четверг или в пятницу, и что голос у Хьюза был вполне бодрый. Рон часто проводил выходные в палатке у горячих источников Сеспе примерно в 130 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса. За прошедшие выходные местность в тех краях затопило. Возможно, Хьюз застрял где-то там и не может выбраться.
На следующий день мы узнали, что Хьюз еще в пятницу отправился в Сеспе в компании с юношей и девушкой – Джеймсом Форшером и Лорин Элдер – в «фольксвагене» Элдер. Двое молодых людей (которых допросили, но не задержали) рассказали, что из-за ливня решили вернуться в Лос-Анджелес, но Хьюз остался до воскресенья. Впрочем, когда они попытались уехать, автомобиль увяз в грязи, и его пришлось бросить; до города пара добралась автостопом.
Утром следующего дня, в субботу двадцать восьмого числа, Хьюза видели еще трое молодых людей. В это время он в одиночестве стоял на возвышении, вдали от зоны затопления. Обменявшийся с ними парой фраз Хьюз не показался юношам встревоженным или больным. Всех троих полицейские проверили на детекторе лжи и тоже отпустили. Поскольку Форшер и Элдер видели Хьюза днем ранее, их не стали прогонять через детектор и просто приняли на веру их рассказ.
Из-за ненастья Офис шерифа Вентуры лишь через два дня смог поднять в воздух вертолет для осмотра местности, а пока нам приходилось довольствоваться слухами. Одни говорили, что Хьюз сбежал намеренно, то ли избегая выступать в суде, то ли саботируя процесс. Зная Рона, я всерьез сомневался, что дело именно в этом, и сомнения переросли в убежденность, когда вскоре жилище Хьюза посетили несколько журналистов.
Обычно он спал на матрасе в гараже, пристроенном к дому приятеля. По словам репортеров, там царил страшный кавардак; один из журналистов сказал, что даже собаку не сунул бы в такую конуру. Но на стене гаража в чистенькой рамочке красовалась надежно и аккуратно закрепленная адвокатская лицензия Рональда Хьюза.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.