Текст книги "Год Дракона"
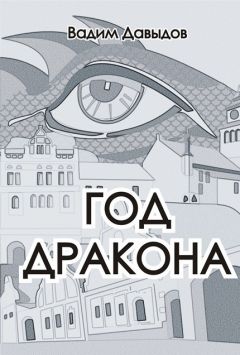
Автор книги: Вадим Давыдов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 47 (всего у книги 48 страниц)
Понтифик, чуть пригнувшись, вошёл в молитвенный зал Старо-Новой синагоги. Шамес[73]73
Служка в синагоге.
[Закрыть], увидев князя епископов, застыл – когнитивный диссонанс как он есть – и в ответ на светлую улыбку понтифика молча указал на возвышение, где сидел Мельницкий ребе. Урбан поблагодарил его кивком головы и шагнул вперёд.
Услышав шаги гостя, ребе обернулся и с видимым усилием поднялся. Понтифик приблизился, и они пожали друг другу руки. Ребе указал Урбану на скамейку напротив себя, а сам опустился на место. Понтифик владел ивритом, и это не являлось секретом для ребе. Он вообще много знал, и, возможно, оттого улыбался довольно редко.
Моральный авторитет ребе простирался далеко за пределы той общины в полтора десятка тысяч хасидов, которую он формально возглавлял. Кое-кто даже называл его «главой поколения», но сам ребе искренне себя таковым не считал. А человек, сидящий сейчас перед ним, держал в руках бразды правления гигантским организмом – католической церковью, объединяющей более миллиарда мирян и священников. Из уважения к этой власти и налагаемому ею бремени ребе заговорил первым, проведя по седой бороде едва заметно подрагивающей, в старческих пигментных пятнах, рукой:
– Ты[74]74
На иврите не существует обращения «вы» к одному собеседнику.
[Закрыть] наверняка хотел поговорить со мной об этом апикойресе, Падре. Что ещё он натворил?
– Не называй его этим словом, рабби. Он – мой друг, и я люблю его.
– Ладно, – кивнул ребе, – но и Драконом я называть его не стану. Пусть будет пока просто «он». Я слушаю тебя, Падре.
– Я хочу рассказать тебе одну историю. Но сначала я немного расскажу о себе. В ту войну, которая чуть не стала из последней мировой – предпоследней, – когда наци оккупировали мою родную Италию, я ушёл в партизаны.
– Я даже могу назвать фамилии спасённых тобой евреев, – кивнул ребе. – Двое моих лучших учеников появились на свет благодаря тебе.
– Надеюсь, ты не думаешь, будто я спасал их семьи, надеясь потом попросить у тебя что-нибудь, – лукаво посмотрел на ребе понтифик.
– Но просьба у тебя всё-таки есть.
– Есть. Но всё же, сначала – история.
Ребе опёрся на посох и снова кивнул.
– Я оказался самым образованным парнем в партизанском отряде, – понтифик задумчиво разгладил рукой складку на белом атласе сутаны. – И так уж вышло, – как единственному, умеющему читать по-латыни, мне выпала роль партизанского священника. Не могу сказать, что принял её с восторгом – я всего лишь любил нуждавшихся в опоре на веру людей и помогал им, как мог. Но я всё-таки стал священником. Я любил и был любим – прекраснейшей и лучшей из женщин, когда-либо живших на этой земле. Нацисты убили её, и только Церковь могла заполнить чудовищную пустоту моей души. Перед посвящением в сан я дал себе клятву: всегда делать всё мыслимое и немыслимое, чтобы приходить на помощь Любви. Чтобы больше никогда не терять её. Именно поэтому я здесь, именно поэтому я говорю с тобой. И я хочу рассказать тебе о Елене.
– Той самой? – уточнил ребе.
– Боюсь, другой такой я не знаю, – понтифик опёрся на спинку скамьи. – Поначалу её история мало чем отличалась от миллионов прочих историй о юных и горячих девушках, отправившихся покорять миры. Мужчина, который должен был стать отцом её ребёнка, предал её, – модный в богемных кругах музыкант, весёлый и скабрезный любитель выпивки и женщин, освоивший амплуа кухонного борца с проклятым советским режимом. Какое забавное приключение: влюбить в себя девочку из Златы Праги, – Праги, раздавленной танками ненавистного «совка». Какая пища для тщеславия, какая утеха для самолюбия! Он обманул её и заставил избавиться от ребёнка – да она сама ещё была почти ребёнком. К тому же всё происходило так далеко от дома, – в Москве. Как правило, на этом истории заканчиваются, – девочки возвращаются домой, и продолжают как-то устраивать свою жизнь. Но история Елены только тогда началась. Приговор медиков – никогда не иметь детей – не сломил её. Оставшись одна, – родители умерли один за другим, – она сделала себя сама, став больше, чем писателем, – став в ряды тех, кого называют совестью нашего мира. Она многое преодолела, многому научилась за время, прошедшее с той поры. Поверь мне, рабби, – немногие мужчины способны пережить выпавшее ей на долю, увидеть то, что довелось ей увидеть, – и не сломаться, не сдаться, а по-прежнему бросать миру в лицо горькие и правдивые слова, – так, как делает это она. Она носилась по всему свету, лезла в самое пекло, словно ища гибели. Своими огненными, яростными словами она спасла от голода, войн и сиротства стольких детей! Лишь своего собственного не приходилось ей кормить и ласкать. Её считали – и считают – резкой, бесстрашной, язвительной, остроумной, безжалостной. Она и в самом деле такая! Всевышней вёл её тяжкой, тернистой дорогой, пока она не стала вровень с тем мужчиной, которого он предназначил для неё. И его он вёл схожим путём – сквозь битвы, утраты, искушения невиданной властью, даже сквозь саму смерть. Я знаю его много лет, и вижу в его глазах пламя – пламя, сверкавшее во взоре Моисея, выводившего народ из рабства. Пламя в глазах Иисуса Навина, освещавшего путь в Землю Обетованную. Ему, безусловно, не легче – у него за спиной не шестьсот тысяч, а шесть миллиардов. Они тоже ропщут, – голодные, отчаявшиеся, разуверившиеся, обозлённые. Среди них немало таких, кто не хочет – и никогда не сможет – подняться из тьмы. Но он всё равно тянет их всех к свету, и Всевышний решил: пусть ему станет самую чуточку легче.
– Ты и в самом деле очень любишь его, Падре, – изумлённо покачал головой ребе.
– Я люблю их обоих. А ещё – я хорошо понимаю их чувства. Они оба желали счастья для всех, сами пытаясь жить – без него. Не то, чтобы они были несчастны, – на мгновение задумался понтифик. – Они трудились, не покладая рук, и добивались подчас невозможного, – но настоящего счастья не было. Ведь человек не может быть один. Они долго – и он, и она – боялись поверить в то, что имеют право на счастье. И тогда – случилось чудо. Как всегда, необъяснимое. Как всегда – совершенно неожиданно. Она носит под сердцем его дитя, а он назвал её своей женой. Я верю: замысел Всевышнего шире и глубже традиций и правил, отделяющих, отдаляющих людей друг от друга. Именно это хочет он нам показать. И ещё я чувствую, – Всевышний закончил испытывать эту женщину и этого мужчину. И кто мы такие, чтобы оспаривать его решение?
– Ты хочешь сказать: кто такой этот старый упрямый – ну, да ведь все мы упрямы, таков наш характер, – еврей, чтобы спорить с самим Господом? – улыбнулся ребе. – А ведь тебе известно – евреи всегда спорили с Ним, – он взглянул наверх. – Но спорить ради того, чтобы спорить? Ну, нет, не настолько я глуп! – Ребе опять улыбнулся и погладил бороду. – Я признаюсь тебе в одной крамольной вещи, Падре. Ты – лучший из рассказчиков, которых мне доводилось слышать, за исключением, быть может, моего отца. И иврит твой великолепен. Так чего хочешь ты от меня? Попроси, и я сделаю, если такое возможно.
– Что за доблесть – сделать возможное, рабби? Сделать невозможное, сотворить чудо – вот настоящее дело! Мы не можем спорить с любовью, ведь Бог – это Любовь. Мужчина, на которого ты гневаешься так, что даже по имени не желаешь его называть, и эта женщина, – предотвратили самую страшную войну в истории. Если бы не эти двое, – разве сидели бы мы здесь с тобой, и говорили бы о том, что в нашей жизни важнее всего? О том, что делает нас, в конце концов, людьми, – о Любви? Без неё все наши меморандумы и декларации о мире и дружбе не стоят выеденного яйца. Слова о любви без Любви – мерзость пред Господом. Может быть, любовь этого мужчины и этой женщины сделают, наконец, то, что раньше никому не удавалось? Когда мы с тобою умрём, рабби, наши тела станут легче ровно на двадцать один грамм. И твоё, и моё. И наши души устремятся назад, к своему Творцу. И там он спросит нас с тобой – а что мы, ты и я, сделали для того, чтобы победила Любовь?
Понтифик умолк и опустил голову. И тогда Ребе, тяжело вздыхая, поднялся, опираясь на свой знаменитый посох, подошёл к арон-кодешу[75]75
Арон-кодеш – ковчег, обычно размещаемый на стороне синагоги, обращённой в сторону Иерусалима, где хранятся свитки Торы.
[Закрыть], отодвинул расшитый золотыми львами и коронами парохес[76]76
Парохес – богато украшенный занавес ковчега со свитками Торы.
[Закрыть], раскрыл створки, за которыми стояли, теснясь, несколько свитков Торы разной величины, и повернулся к викарию Христа. И, стукнув посохом об пол – эхо, дробясь и множась, покатилось под сводами потолочного нефа синагоги, – произнёс:
– Ради любви человеческой. Ради любви Творца Мира к своим творениям. Ради истинной дружбы. Во имя Славы Всевышнего. Перед свитками священной Торы, дарованной нам через Моше, Учителя нашего, Властелином Вселенной на горе Синай, – обещаю тебе, Падре: я сделаю всё, о чём ты попросишь меня. Возможно это или нет. Говори.
– Я прошу тебя, рабби, вместе со мной благословить их. Прямо здесь, в присутствии самых близких друзей и твоих учеников. Пусть люди видят, – Любовь может всё. Даже невозможное. И пусть эти свитки будут тому свидетелями.
– Я согласен. Но лучше бы этот упрямый мальчишка учил Тору!
– Пожалуй, немного знания о том, как устроен мир, ему вовсе бы не помешало, – увидев печальную усмешку Ребе, понтифик тоже улыбнулся.
– Он здесь?
– Кто? Даниэле? Да. Он там, снаружи.
– Пусть зайдёт. Хочу сказать ему кое-что. До свидания, Падре. Для меня большая честь – познакомиться с тобой.
– Для меня тоже, рабби. До встречи, мой друг, – понтифик наклонил голову и, повернувшись, направился к выходу.
* * *
Стоящий на биме[77]77
Бима – возвышение, обычно в центре молитвенного зала синагоги, на котором читают свиток Торы.
[Закрыть] ребе возвышался над Майзелем, разглядывая его, словно впервые в жизни. Покряхтев и недовольно покачав головой, старик достал ермолку и с сердцем нахлобучил её Майзелю на макушку.
– А без этих ритуальных пассов ты не можешь со мной разговаривать? – улыбнулся Майзель.
Ребе треснул его посохом по плечу, – не слишком больно, но чувствительно:
– Тебе смешно, ходячий цорэс[78]78
Цорэс – несчастье (идиш).
[Закрыть]?!
– Я улыбаюсь, даже когда хочется плакать, ребе. А тебе разве грустно?
– Я знаю – ты «тыкаешь» всем, и королю, и Римскому Папе. Тебя не учили вежливо разговаривать с людьми, которые старше тебя в два раза?
– Разве я хамлю? – удивился Майзель. – Просто я ко всем обращаюсь на «ты». Если уж сам Всевышний разрешает любому на всех языках называть его на «ты», – люди, требующие себе каких-то исключительных, не подобающих даже Господу Богу привилегий, вызывают у меня, по крайней мере, недоумение. А в особо тяжких случаях – могу и голову откусить.
– Некоторый резон в твоих словах имеется, – пожевав губами, нехотя согласился ребе. – Ну, хорошо. Так если тебя смешат ритуальные – как ты сказал? Пассы? – тогда зачем ты здесь?
– Я люблю своих друзей, – подумав, произнёс Майзель. – Для них всё это важно. Я мог бы пойти к любому другому раввину, и легко получить от него все мыслимые разрешения и благословения. Без каких-то глупостей вроде принуждений и подношений, а потому, что я – это я. Но я пришёл к тебе – тебе же наплевать, кто перед тобой, король или мусорщик. Или Дракон. Если ты мне поверишь, значит, я чего-то стою.
– Ну?! Говори.
– Знаешь, ребе, так уж повелось у людей: на самые главные события в своей жизни они зачем-то зовут служителя культа. Даже гораздо чаще, чем адвоката. Ей-богу, для меня загадка, зачем. Но мне почему-то очень хочется в последнее время походить на человека. Наверное, я старею. Как ты считаешь?
– Ах, ты, шейгец[79]79
Слово «шейгец» (идиш) имеет множество оттенков. Оно может означать «грубиян, хам», а может иметь снисходительно-беззлобную окраску и переводиться как «ловкий плут»; иногда его употребляют в значении: «проницательный тип, от которого трудно что-либо утаить».
[Закрыть], – вздохнул ребе. – Ты такой цудрейтер[80]80
Ненормальный (идиш)
[Закрыть], – на тебя даже сердиться толком нельзя. Это же надо, – отпустить слабую женщину, вот такого роста, – ребе приложил ребро ладони к груди, – прямо в пасть к этому, как его? – к этому хазерюке[81]81
Хазер (идиш) – свинья
[Закрыть], а файер зухт ин[82]82
Дословно: «огонь его ищет» (идиш)
[Закрыть]! И она ещё хочет за тебя замуж?! Бедная, бедная женщина! Наверное, ты её околдовал! Хватит ржать, как мишугинер[83]83
Сумасшедший (идиш)
[Закрыть]!
– Это не я, а она, ребе, – помотал головой Майзель. – И не только меня. Даже этот – ох, – хазерюка не смог устоять. Отдал ей в руки самое дорогое, к чему – к кому – испытывал хоть какие-то чувства, – своего сынишку. Ну, так ведь это Елена!
– А с ним самим что? – сердито поинтересовался ребе. – С этим, гроз зол аф им ваксн[84]84
Чтоб над ним росла трава (идиш)
[Закрыть], – что ты с ним сделал?
– Его загрызли его же шакалы, – веселье Майзеля как рукой сняло. – Я не собирался его убивать. Елена дала ему слово – мы его не тронем. Но мы при всём желании не можем успеть везде. Его заказал старый подельник Сосняковский. Слышал ты о таком, ребе?
– Я слышал, он выкрест[85]85
Вы́кресты (выкрест, выкрестка) – перешедшие в христианство из другой религии; чаще всего употребляется по отношению к крещёным евреям и несёт негативные коннотации. Большинство современных словарей даёт слово с пометой «устаревшее».
[Закрыть], – пробормотал ребе.
– Ну, тем более, – оскалился Майзель. – Я велел его стереть.
– И ты говоришь об этом со мной?! – кажется, Майзелю всё-таки удалось вывести ребе из равновесия. – Не хочу об этом знать!
– Да, ты неплохо устроился тут, прямо как в башне из слоновой кости, – Майзель огляделся и завистливо вздохнул. – Книжечки старинные листаешь. Можешь выбирать, что хочешь знать, а чего не хочешь. Увы, не всем так повезло. А мне вот скучно врать, ребе. Говорить правду куда веселей.
– И король хочет меня с тобой помирить, – словно удивляясь, проговорил ребе.
– Да, и давно. Я-то с тобой не ссорился, но все знают: ты на меня дуешься. Но если мы помиримся, тебе придётся выслушивать от меня только правду. Любую и постоянно. И не дуться. У нас слишком много работы, чтобы ссориться по пустякам.
– А это, значит, для тебя пустяки, – буркнул ребе, указывая глазами на ермолку у Майзеля на голове.
– Конечно, пустяки, ребе, – подтвердил Майзель. – Да ты ведь и сам это понимаешь.
– Что я понимаю, тебе знать не обязательно, – ворчливо отозвался ребе и прищёлкнул языком. – Но какие люди называют тебя своим другом! Господи боже мой, какие у тебя друзья! Наверное, ты всё же не окончательно безнадёжен, раз у тебя такие друзья?! Что-нибудь из тебя, наверное, в конце концов, получится?! Кольцо у тебя есть?
– Какое кольцо?
– Ты женишься или погулять вышел?! – рассвирепел ребе. – Кольцо, дурень, – «этим кольцом ты посвящаешься мне по закону Моисея и Израиля!»
– Не понимаю я твоего беспокойства, – пожал плечами Майзель. – Как ты думаешь, – есть в этом городе человек, который откажется помочь Дракону найти кольцо для его любимой?
– Так ты её любишь, – усмехнулся в бороду ребе. – Наконец-то ты сказал именно то, что я хотел услышать.
Майзель помолчал, а потом улыбнулся:
– Ай да ребе. Обвёл меня вокруг пальца!
– Ну, так ведь я – ребе. А ты – всего-навсего какой-то Дракон!
Майзель разинул пасть, чтобы возразить. Но вдруг передумал, – и покорно кивнул.
– В общем, так, – насупился ребе. – Через день будь здесь со своей Еленой, епископом и кого там вы ещё хотите позвать. Только никаких журналистов! А я пока подумаю, как женить еврея на католичке и не нарушить при этом заповеди!
Прага, Старо-новая синагога. 30 мартаРебе сидел над книгами всю ночь. В основном – над книгой Рут. «Знают во вратах народа моего, – женщина геройская ты!»[86]86
Книга Руфь, 3:11.
[Закрыть]. В соответствии с буквой закона, закона строгого и справедливого, хранившего столько веков его народ, – ребе не должен совершать обещанного понтифику. Такое не под силу даже тысяче раввинов, способных отменить или принять любое постановление. Даже Сангедрину[87]87
Сангедрин (иврит) – совет из самых выдающихся и прославленных мудрецов численностью 71 человек, во времена Иудейского царства бывший высшим иудейским законоустроительным институтом.
[Закрыть]. Если женщина или мужчина хотят быть с его народом, они должны выдержать испытание на прочность своего стремления, показать, что этот выбор – сознателен, продуман, выстрадан. Но ведь недаром Царь Мира устроил так, чтобы именно Рут-моавитянка стала прабабкой Давида-псалмопевца, величайшего из царей Израиля?
А ещё – слова князя епископов задели какую-то неведомую струну его души. Было в них что-то невероятно значимое, чему сам ребе пока никак не мог подобрать определения.
Он не собирался проводить обряд бракосочетания в соответствии с установленными правилами и религиозными канонами своей веры. Но какое-то решение, – решение, отвечающее истинному духу Торы, духу божественной справедливости, духу, утверждающему великий принцип: «когда два стиха противоречат, длится это, пока не явится третий, примиряющий их» – он должен был найти. Обязан. В этом ребе, в противоположность всему остальному, как раз ни секунды не сомневался.
Он поднял голову и увидел стоящего в арке входа смотрителя кладбища, Пинхаса:
– Доброй ночи, Ребе.
– Здравствуй, реб Пинхас. Подойди ко мне, смелее.
– Ребе, этот… Папа? Он из-за неё приходил?
– Из-за неё? – повторил вопрос смотрителя ребе. – О ком это ты?
– Да. Из-за этой женщины, – хасид вздохнул. – Я её спросил тогда, – ты разве еврейка?
– Когда?
– Она была здесь, Ребе. Такая… Ещё до всей этой истории. Сидела на кладбище. У могилы его матери. Долго, так долго, – может, час, а то и больше. Свечку зажгла. Разговаривала с ней. Плакала. Я думал, я сам разревусь.
– Почему ты мне ничего не рассказывал?
– Я не знал, что это важно, Ребе. Если бы я знал!
– Спасибо тебе, реб Пинхас.
– За что?
– Ты помог мне. Спасибо.
– Ох, Ребе!
– Ничего, ничего. Иди с миром, реб Пинхас.
И ребе улыбнулся.
Он не был бы ребе, если бы не нашёл решения. Было уже утро четверга, и его хасиды собрались на молитву. Когда она завершилась, Ребе велел трём старшим своим ученикам остаться, а всем прочим удалиться.
Они назывались учениками, но сами давно стали учителями и наставниками. Учёные, комментаторы священных текстов, они по праву пользовались почтением и уважением единоверцев. Мужья и отцы семейств, высокие, статные, со светлыми, одухотворёнными лицами, какие бывают лишь у людей, действительно чистых помыслами и сердцем. Не равные ребе, конечно, – пока. Кому-то из них должен был перейти по наследству знаменитый посох. Они знали: именно среди них будет выбран следующий ребе, но между ними не было зависти и интриг, – служение Торе[88]88
Тора – Пятикнижие Моисея – основа иудейского религиозного письменного Закона.
[Закрыть] и учение Торы было главным смыслом и радостью их жизни. И вдруг услышали они такое, от чего мороз пробежал у них по коже.
Сев перед ними и поставив посох между колен, Ребе проговорил, глядя на них своими удивительно молодыми, сверкающими глазами:
– Слушайте меня, рабойним[89]89
Рабойним (идиш, от ивр. «Рабаним», мн.ч. от «рабби») – уважительное обращение к нескольким раввинам одновременно.
[Закрыть]. Однажды случилось во времена Царей в Эрец Исроэл, – олень прибился к стаду овец. Увидев это, хозяин отары приказал пастухам особенно заботиться об этом олене. Спросили пастухи, удивлённые этим: к чему заботится нам об олене, что толку в нем, не овца он, нет от него пользы и быть не может? И ответил хозяин: овцы мои знают только одно стадо, а перед этим оленем весь мир, и он может выбирать. Он выбрал моё стадо, и потому в особой заботе нуждается он.
Ребе помолчал, оглядев все ещё недоумевающие лица учеников. И, кивнув, заговорил снова:
– Завтра утром, после молитвы, я буду разговаривать здесь с женщиной. С христианкой. Слушайте её речь, рабойним. Забудьте всё, чему учились вы столько десятилетий. Все забудьте, – от первой до последней буквы. Нет ни Мишны[90]90
Мишна – часть Устной Торы.
[Закрыть], ни Гемары[91]91
Гемара – комментарий к Мишне.
[Закрыть], ни Писаний, ни Пророков. Нет Торы, – только дух её пусть витает над вами, рабойним. Слушайте эту женщину – и слушайте свои души: вы должны будете вслух повторить мне то, что скажут вам они. Идите сейчас в микву[92]92
Миква – бассейн для ритуальных омовений, предназначенный в первую очередь для «очищения» женщин после смены цикла, перед некоторыми праздниками и особо важными молитвами посещаемый также мужчинами.
[Закрыть], а потом – мы вместе будем молиться, чтобы Всевышний послал нам мудрость, разум и милосердие, чтобы Шехина[93]93
Шехина – Божественное Присутствие.
[Закрыть] была завтра с нами, чтобы решение, которое мы завтра примем, было во славу Его Святого Имени. Идите, я жду вас, рабойним.
– И что нам теперь, по-вашему, делать? – президент Соединённых Штатов выслушал доклад и распрощался с послом в Короне. – Давайте, Тимоти, выкладывайте ваши соображения!
– Э-э, сэр, – протянул Тимоти Ларкин, советник президента по национальной безопасности. – Я просил вас принять меня по другому, несколько более значительному поводу.
– А подождать это не может?!
– Думаю, нет, сэр. Но, собственно, если вы хотите услышать моё мнение, то…
– Очень хочу, Тимоти, – елейным голосом прервал советника президент и улыбнулся своей ослепительной инаугурационной улыбкой.
– Видите ли, сэр, – советник набрал в грудь побольше воздуха. – Мне, например, совершенно ясно, что отношения Короны с русскими после этого кризиса вышли на беспрецедентный уровень. И в среднесрочной перспективе вбить между ними клин вряд ли кому-нибудь удастся. В настоящий момент Вацлав имеет такой кредит доверия, о каком любой нормальный политик может только мечтать, – причём, как у себя в Короне, так и в России. Если русские руководители не хотят немедленно вылететь из Кремля, им ничего не остаётся, как разворачивать сотрудничество с Короной по всем направлениям. Монархические настроения в России лучше возглавить, чем пытаться им противодействовать.
– А они там вообще когда-нибудь ослабевали?! – хмыкнул президент. – Извините, Тимоти. Продолжайте.
– Да, конечно. И если русскому Президенту сейчас удастся оседлать эту тенденцию, – а, похоже, все предпосылки для этого налицо, – то он спокойно пойдёт на второй срок и будет переизбран без всяких «если». Что же касается Республики, или, прошу прощения, Великого Княжества, – Ларкин развёл руками. – Присутствие на церемонии русского посла и патриаршего экзарха не оставляет сомнений: русские готовы согласиться с предложенным вариантом. Тем более, их экономические интересы от этого только выиграют. Нужно понимать, – опередить мы их там теперь, конечно, не опередим, и каким-то образом настаивать на пересмотре итогов событий у нас ещё меньше возможностей. Кроме того, нам следует отдавать себе отчёт: именно Корона и её авторитарное руководство выступило гарантом основополагающих ценностей демократии, права выбора свободы волеизъявления. У наших друзей из медийного пула сейчас настоящая паника – никто не ожидал именно такого разворота, все они привыкли использовать в адрес Вацлава и Короны в целом антиавторитарную риторику, а тут – такое. В общем, Вацлав снова, в который раз, доказал, что умеет пользоваться для достижения своих целей и решения стратегической задачи гегемонии Коронного союза на европейском, или, лучше сказать, евразийском театре, практически любыми инструментами. Совершенно непонятно, что можно этому умению противопоставить, и, главное, стоит ли? – Ларкин с соменинием покачал головой. – Да и симпатии людей, народов – и в Европе, и тут, в Америке – в общем и целом на стороне Короны. Поэтому следует, я полагаю, поскорее объявить о признании де-факто и готовить юридическую процедуру.
– У вас редкая способность чертовски воодушевлять слушателя, Тимоти, – кисло заключил президент. – Вам бы в крематории работать – утешать родственников усопших по заказам их злейших врагов.
Ларкин обиженно поджал губы и отвернулся – не стоило раздражать начальство открыто недовольным выражением физиономии.
– Так что вы там хотели мне показать? – окликнул его после непродолжительной паузы президент. – Вы требовали немедленной аудиенции. Что произошло?
– Давайте лучше посмотрим это вместе, сэр, – осторожно предложил советник. – Я уверен, это не лезет ни в какие ворота, но я полагаю, наши, – э-э – партнёры? – на Ближнем Востоке тоже получили это – э-э – послание, и нам следует ознакомиться с ним как можно скорее.
– Ну, давайте, давайте, – проявил заинтересованность президент. – Что-нибудь горяченькое?
– Боюсь, это так, – старательно перелистывая несколько листочков в своей тоненькой папочке, пробормотал советник.
– Так чего же вы ждёте?!
Советник направил пульт на телевизор, и после заставки на экране появился Вацлав на фоне захватывающей дух панорамы своей столицы: гвардейский мундир, боевые ордена, шако с плюмажем. Президент поморщился, – до импозантности Императора Вселенной ему, чиновнику, – рычагу управления, но не управляющей силе, – никогда не подняться. Голос короля, глубокий, раскатистый, доставал до самых печёнок:
– Я обращаюсь к вам – всем, кто замыслил и решился на попытку столкнуть в самоубийственной схватке народы Короны и России, – братские народы, несмотря на разделяющие нас границы и нагромождения лжи. Обращаюсь открыто, публично – в первый и последний раз. Вы хотели, чтобы ужас поселился в наших сердцах, и горе вольготно расположилось под крышами наших домов. А мы в ответ бросаем вам вызов!
Президент замахал руками, как мельница, и советник поспешно нажал на кнопку остановки.
– Это сумасшествие, – простонал президент. – Чего он добивается?!
– Я думаю, мы услышим это от него самого, – предположил советник. – Его величество, по-моему, вообще не в курсе существования дипломатического протокола и понятия не имеет, что такое иносказание или эвфемизм. Я включаю, сэр?
Президент сердито махнул рукой и опрокинул в себя стакан воды.
Экран ожил.
– Вы ненавидите жизнь и труд, мечтая поскорее перебраться в свой рай для бездельников, блудодеев и наркоманов. Мы работаем день и ночь, пытаясь обустроить наш мир для удобной, достойной, свободной жизни, а вы ненавидите нас за это, прикрываясь лживыми бреднями о каком-то несуществующем духе, который всё устроит, стоит лишь помолиться и принести ему в жертву наши тела и дела. Да, мы совершаем ошибки – но это ошибки созидания, творчества и познания. Именно поэтому вы впадаете в панику и неистовство: разглядывая в лупу вросший ноготь на нашем мизинце, вы орёте – «Зараза!», и пытаетесь под шумок перерезать нам горло ножом. А что вы творите с вашими собственными детьми?! Учить ребёнка – великий и сложный труд, а вы – не умеете, и не хотите учиться. Всё, чему вы способны их научить – ненависть. Что вы читаете им перед сном, кроме сказок о вашем пророке?!
– Но это же война! – рявкнул президент и хлопнул ладонью по столу.
– Совершенно верно, сэр, – Ларкин ещё глубже втянул голову в плечи. – Вы сейчас там ещё кое-что услышите, в третьей, так сказать, части. Его величество откровенен до самой последней степени. Знаете, очень трудно взаимодействовать с такими, – кайзер, по-моему, не знает, как ведут себя политики, – пожаловался он. – Боюсь, у нас совсем немного времени. Как утверждает его эмиссар, через двадцать часов запись выступления появится в открытом доступе.
– Да они с ума сошли! – вскинулся президент. – Ладно, давайте, крутите дальше. Надо же дослушать. Проклятье, с этими славянами сплошные проблемы! О, Господи. Да крутите же!
Вацлав произносил текст без всяких шпаргалок, – это чувствовалось. Взгляд короля упирался прямо в зрителя:
– Вы, с вашим дикарским презрением к любому знанию, кроме «святого», вечно копошащиеся на одном месте, роющиеся в остатках не вами созданного, и есть блестящее доказательство очевидного: природа ищет пути к совершенству вслепую, и вы – ошибка поиска, тупиковая ветвь. Пятьсот лет назад мы были точно, как вы – говорящими дикарями, пытающимися превратить свинец в золото, переливая его из сосуда в сосуд, и сжигая женщин, вся вина которых состояла лишь в их красоте. Нас держала за горло костлявая рука голода, а наш бедный разум, отравленный ядом спорыньи, рождал сонмы чудовищ. У нас не было живого примера, никто не мог нам помочь – мы выбрались из зловонного колодца сами, раздирая в кровь руки и колени, падая и поднимаясь снова. А вы и на протянутую вам руку не желаете опереться, всё время пытаясь вцепиться в неё зубами. – Президент сидел, сжав пальцами виски, и, похоже, не решался взглянуть на экран. – Даже наша церковь, утратив над нами безраздельную власть, сумела задуматься и обрести себя вновь на путях перемен. А вы не хотите, – вы только слащаво улыбаетесь на переговорах, с вожделением глядя на наши непонятные, и потому волшебные для вас инструменты, мечтая завладеть ими, – даже не задумываясь о том, что будете делать, когда сломаете их или когда иссякнут батарейки!
– Остановите, Тимоти, – глухо попросил президент.
– Да, сэр, – послушно отозвался советник и взмахнул пультом.
– Как вы думаете, можем мы что-нибудь предпринять?
– Простите, сэр, – запнулся Ларкин. – Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду следующее: какие у нас шансы не участвовать в том, что затевают эти ненормальные?!
– Боюсь, никаких, сэр.
– Ясно, – кажется, президент даже обрадовался, услышав это. – Ну, ладно. Дайте мне пульт, я сам.
Телевизионная картинка опять наполнилась красками и движением. Голос Вацлава теперь не звучал, а гремел:
– Так вот, слушайте мой приговор. Земля – колыбель Разума, и неразумным на ней не место. Мы заберём у вас всех людей, – всех, кто хочет жить, учиться, трудиться, кто стремится к знанию, кто тянется к свету, ищущих смысла. Мы дадим им занятие, примем в семью – нам всё равно, какого цвета глаза и кожа у человека, если он человек, а не безумный дикарь. Мы обнесём ваш муравейник стеной с часовыми, и до той минуты, пока последний из людей не покинет его, мы станем держать ворота открытыми, – но будем стрелять в дикарей, мешающих людям идти. Мы даём приют нуждающимся, – а вы прячете у себя недобитых эсэсовцев и повторяете за ними ядовитые бредни о евреях, мечтающих вас поработить. Вы даже глупости не способны сочинить самостоятельно! Всех, кто дёргает вас за ножки и ручки, чтобы нас задержать, остановить, опрокинуть, – мы перебьём. – На этом месте президент подпрыгнул в кресле и схватился за голову, а советник резко уткнулся носом в свою папочку. – А потом мы возьмём вас, дикарей, вместе со всем вашим жалким тряпьём, и высадим на свободе. На голой земле, где всё нужно делать самим. Где нельзя выгнать кого-то из дома, а нужно построить его самому, и натаскать дров, и развести огонь, и укрыть женщину и ребёнка, и найти время и силы, чтобы сесть и подумать, как защититься от хищников и стихий. Вы хотите, чтобы вас оставили в покое? Мы оставим вас в покое – на тысячу лет. И через тысячу лет – посмотрим, справитесь вы или сгинете навсегда!
Экран медленно погас. В кабинете повисла тишина, густая и жуткая.
– Тимоти, – прошипел, наконец, президент. – «На голой земле» – что это значит?! Да, да, – я вас спрашиваю! Где они найдут эту самую «голую землю»? – Он гулко прокашлялся: – Или они её уже нашли?!
– Я говорил вам, сэр, – советник никак не желал посмотреть в глаза патрону. – Его величество решительно не признаёт иносказаний и экивоков.
Президент закрыл рукой лицо и сидел так, в безмолвии, довольно долго.
– Скажите-ка мне одну вещь, Тимоти, – президент отнял, наконец, руку от лица. – Как это вышло? Как у них это вышло, вы можете мне объяснить?
– Простите, сэр, – смешался Ларкин. – Боюсь, я вас не совсем понимаю.
– Я говорю о кайзере. И об этом… Драконе. Как им удалось обойти, обставить… наших?
Это слово – «наших» – президент произнёс так, что у Ларкина не могло возникнуть сомнений, о ком, собственно, речь. И помощник счёл разумным промолчать, ожидая дальнейших слов патрона, – только чуть заметно повёл плечом, давая понять, что не хочет мешать размышлениям.
– Я же помню, как всё это начиналось, – продолжил президент. – Они – часть системы, иначе их никогда бы не допустили… Когда всё изменилось? И как?
Он посмотрел на старательно молчащего Ларкина и невесело усмехнулся:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































