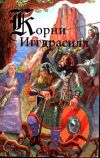Автор книги: Вильгельм Грёнбек
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 44 страниц)
Во время всеобщего переселения, когда семьи из разных частей Норвегии поселились на берегах Исландии, людям волей-неволей пришлось многое изменить в самих себе. Независимые друг от друга кланы из различных районов Норвегии вынуждены были жить рядом, и старые семейства, вероятно, с трудом могли сохранить свое достоинство, которое было им присуще на прежнем месте, где почитание из века в век все больше усиливалось. В «Саге о людях с Песчаного берега» мы читаем о том, как переселенцы сводили между собой счеты, которые имели несколько параллелей. Авторитетная семья, что поселилась у Хельгафелля, пыталась установить в районе свое владычество, но столкнулась с мощным кланом, жившим по соседству, который не желал им подчиняться. Недовольство выразилось в такой фразе: «Они что, думают, что их земля более святая, чем другие земли вокруг Брейдафьорда (Широкого фьорда)?» Недовольные подкрепили эти слова вторжением на землю соседей и ее разграблением, после чего произошла битва, которая привела к соглашению, в котором оба клана признали, что права у них равны. На самом деле это была борьба за верховенство, но ее, естественно, приписали религиозным причинам, поскольку это был не формальный спор, а испытание силы двух хамингий.
Чтобы понять, как думали и действовали в старину, надо оставаться в пределах хамингьи, позволив ей развернуться во всю свою силу. Из своего центра святость человека распространяется по дому, заполняет его атмосферу и пронизывает своей силой людей, и внутри дома они становятся совсем другими, чем на улице. Мы можем назвать эту святость «домашним фритом», самой высшей степенью неприкасаемости, которую закон приписывает человеку в его доме. Тот, кто вторгается в дом и ранит хозяина на скамье или у огня, наносит ему больший ущерб, чем тот, кто нападает на него на большой дороге; он разрушает его удачу там, где она самая сильная и сильнее истекает кровью: это действие – настоящая подлость. В датском праве более серьезный характер нарушения мира внутри дома отмечается тем, что это преступление приравнивается по своей тяжести к убийству после примирения. В шведском законе приговор зависит от того, какое положение занимает тело убитого: если он лежит ногами к дому и головой от него, то он сам виновен в своей смерти; если же он лежит головой к дому и ногами от него, то обвиняемый должен уплатить штраф, ибо голова упала с того места, где стояли ноги. Немецкий закон объявлял убийство внутри дома преступлением и приговаривал убийцу к казни, исключив ее замену штрафом, как это делалось в случаях обычного убийства.
Жизнь человека была не менее священной и в чужом доме; любой напавший на него в этом месте оскорблял честь и святость жившей здесь семьи, совершив два непоправимых преступления вместо одного – фрит внутри дома был так прочен, что святости убитого человека не наносилось никакого ущерба даже тогда, когда он навлекал на себя месть. Если преследуемый не совершил никакого ужасного преступления, его противник обязан был соблюсти определенные формальности перед тем, как убить его или захватить в его же доме. Лишь человек, объявленный судом вне закона, не имел права на убежище; когда его святость, то есть жизнь, у него забиралась; он, словно ветка, падал с дерева, и любой человек мог его убить, не опасаясь ничьей мести.
У тех членов клана, которые жили в пределах самого узкого круга удачи, святость была самой сильной. Женщины были полны ею до такой степени, что нападение на них считалось не простым оскорблением, а настоящим преступлением. Их безопасность обеспечивали особые законы. Самому суровому осуждению жители Норвегии и Исландии подвергали бездумное нарушение этих законов.
В центре общества, где мужчину привлекали к ответу за всякое грубое слово, произнесенное в адрес другого мужчины, стояла женщина. Именно она определяла степень наказания и хорошо осознавала свою власть, когда, не скрывая своих чувств, высказывалась по поводу достойного или, наоборот, недостойного поведения мужчины. Тот, кто попадался на язычок женщине и слушал, какие слова она обрушивает на его голову, никогда не пытался остановить этот поток теми же средствами, какими он заставил бы замолчать мужчину. Если же он забывался до такой степени, что поднимал руку на женщину, то стоило надеяться, что рядом окажется добрый друг, который остановит его и помешает совершить это подлое дело. Тем не менее причиной такой терпимости было вовсе не то, что слова женщины обладали меньшей силой, чем слова мужчины; наоборот, оскорбивший женщину человек испытывал особый душевный дискомфорт, ибо слова женщин обладали двойной силой, как и их советы, поскольку исходили непосредственно от божественных сил. «Германцы считают, что в женщинах есть нечто священное и что им присущ пророческий дар, и они не оставляют без внимания подаваемые ими советы и не пренебрегают их прорицаниями», – сообщает Тацит.
Германские предсказательницы были вполне реальными историческими фигурами. Тацит сообщает об одной такой пророчице – деве из племени бруктеров, которая своими советами и предсказаниями руководила войной своих соплеменников с римлянами; после победы она получила в награду самые лучшие трофеи: «В правление божественного Веспасиана мы видели среди них Веледу, долгое время почитавшуюся большинством как божество; да и в древности они поклонялись Альбруне и многим другим, и отнюдь не из лести и не для того, чтобы впоследствии сделать из них богинь». Задолго до Тацита его соотечественники с содроганием смотрели на старух, которые бродили босиком в белых одеждах среди воинственных кимвров, предсказывая будущее по знакам, которые видели в принесенных в жертву пленниках.
Святость требовала большой заботы и большого ума. Чем больше удачи собирал в себе человек, тем больше силы было в его действиях, но тем сильнее он мог навредить, сделав неверный шаг. Если он ошибался или совершал грех, его поступки были более действенными, а их последствия более разрушительными и раны не так быстро заживали. Женщины имели свое место в святости дома; они не должны были выносить удачу в глиняных сосудах; от них не ждали стремительного приспособления требованиям момента, которое могло заставить мужчин забыть об осмотрительности, присущей святости. Мужчины, с другой стороны, жили на внешней границе и, чтобы облегчить себе жизнь за пределами дома, должны были оставлять в нем какую-нибудь одежду, которая приносила им удачу, и надевать более легкое платье для более легких дел. Так мужская жизнь начиналась с освобождения: юноша освобождался от непререкаемого подчинения фриту и переходил в стоящую ниже мужскую степень святости.
Существовали два способа воспитания детей: их могли все детство держать вне хамингьи – в этом случае они в отношении жизненных принципов и, вероятно, по условиям жизни ничем не отличались от рабов. Такие дети получали душу только во время посвящения в мужчины; либо их могли сразу же принять в святость и держать там, пока они не вырастали и не становились мужчинами. Мы не можем сказать, что все германские народы выбирали второй путь, но так делали многие. Переход мальчика из зависимого от всех зернышка удачи в положение самостоятельного носителя и хранителя ее происходил, когда он вступал в пору зрелости, то есть когда ему обрезали волосы. До того дня мальчик носил длинные волосы, как у женщин и дев; его кудри говорили о том, что он свят и неприкосновенен в самом высшем смысле этих слов. После пострижения он подтверждал свое приобщение к миру мужчин, беря в руки оружие, а с ним – и честь, в то время как женщины, удача которых сосредотачивается в их волосах, приносили клятву, обхватив рукой косу. За обрезание волос у мальчика – или, еще хуже, у девушки – без согласия их родичей полагалось
наказание. Гудрун, получившая весть, что ее дочь погибла под копытами коней, сокрушалась оттого, что ее волосы были растоптаны: «Горше не знала я / черного горя: / светлые косы, / волосы Сванхильд / втоптаны в грязь / копытами конскими!»[102]102
Подстрекательство Гудрун // Старшая Эдда. Пер. А.И. Корсуна.
[Закрыть] – жаловалась она.
Именование «длинноволосые короли» (reges crlnlti) использовалось как официальный титул Меровингов. По свидетельству Григория Турского, монархи этой династии носили длинные волосы на прямой пробор, ниспадавшие на плечи. Все Меровинги дорожили своими волосами и не позволяли их стричь, ибо потеря волос символизировала потерю власти. «Если бы его головы коснулась бритва, он стал бы похож на плебея» – так говорил Хильдеберт, когда хотел доказать, что один из самозванцев не имеет никаких прав на королевский титул. Клотильда Бугрундская, после смерти короля Хлодомера, своего сына, не позволила остричь внуков и предпочла предать их смерти, нежели лишиться королевского достоинства – длинных волос Меровингов. «Если уж им не суждено сесть на трон, то я предпочла бы увидеть их мертвыми, чем остриженными!» – воскликнула королева, получив от Хлотаря и Хильдеберта меч и ножницы.
Юношу, женщину и удачливого человека объединяла полнота души. Тот, кому сопутствует большая удача, всю свою жизнь или по крайней мере с того момента, когда он становится вождем клана, сохраняет в себе интенсивность святости. Вот что говорит Тацит о внешнем виде жрецов одного из германских племен: «У наганарвалов показывают рощу, освященную древним культом. Возглавляет его жрец в женском наряде». Не подлежит сомнению и то, что волос его не касалось железо, ибо длинные волосы – один из признаков святости.
Распущенные волосы также были признаком ведьмы. В Швеции женщин, ходивших по улицам с распущенными волосами, когда добрые люди спали в своих постелях, наказывали насильственным острижением.
Сострижение волос, вероятно, было настоящим оскорблением личной святости и неприкосновенности, а потому процедуру обрезания волос мальчиков, вступавших в пору зрелости, препоручали незнакомцу или по крайней мере тому, кто не принадлежал к числу его ближайших родственников. Причиной этого, вероятно, было естественное нежелание семьи отрезать от себя удачу, какой бы необходимой ни была процедура. С другой стороны, следовало убедиться в добрых побуждениях человека, которому бы поручена миссия обрезания волос, ибо столь тесный контакт порождал взаимные обязательства в пределах фрита. Человек, который стриг мальчика, становился его приемным отцом и дарил ему подарки. Нет сомнений, что преимущества, которые возникали в результате того, что человек превращался для мальчика в некое подобие крестного отца, использовались в полной мере, поскольку они создавали условия для союза и увеличения власти самого юноши и его родственников. В семьях влиятельных монархов сострижение волос превращалась в государственное дело, достойное того, чтобы о нем узнали потомки. Павел Диакон сообщает нам, что король франков Карл послал своего сына Пипина к Луитпранду, чтобы тот, согласно обычаю, его остриг и тем самым символически усыновил его. Король лангобардов стал Пипину названым отцом, щедро одарил его и отправил домой.
В «Саге о Курином Торире» говорится, что Херстейн произнес слова клятвы, поставив ногу на камень очага в доме Торда Ревуна. Этот символический жест говорит не только о том, что он готов положить свою жизнь во исполнение обета, но и о том, что его слова вдохновлены силой всех его родственников. И нет никакой возможности отречься от этой клятвы; иными словами, слово уходит вперед, прокладывая путь делам, и ведет за собой того, кто его произнес, и, если его слова окажутся не подтвержденными делом, это навлечет бесчестье на весь его род.
Аналогичная трансформация – менее сильная, но сходная по характеру – происходит в человеке тогда, когда он берет в руки фамильную ценность – меч, копье или кольцо. Прикосновение к реликвии усиливает его клятву. С ее помощью он побеждает противника, который хочет унизить его достоинство. Его слова должны быть правдивы и сильны, чтобы убедить всех, поскольку в нем самом и в его речи видны честь и удача, которые уничтожают на его пути все препятствия. Но клятва или обещание, которые произносит человек, связывают и его самого, изменяя в соответствии с
его словами; если он клянется совершить тот или иной подвиг, то должен выполнить эту клятву.
Даже в христианской форме некоторые германские законы признают клятву, данную «с оружием в правой руке». Этот жест привлек внимание людей, живших в других странах. Римские историки сообщают, что квады – одно из племен свевов, клянутся на мечах, которых считают богами. Чужеземцы едва ли могли понять, что клятва у варваров не была единственным способом выражения своего сознания. Клятва каким-то непостижимым способом проникала в повседневную жизнь и являлась ее нематериальной составляющей. С точки зрения чужеземцев, германская клятва была просто эмпатическим высказыванием или, если выразить эту мысль иначе, они прокладывали себе путь по жизни с помощью клятв. Каждое высказывание должно было иметь некоторое материальное подтверждение. Франк, у которого были какие-то претензии к своему соседу, чувствуя, что ему нужен человек более высокого статуса для защиты его прав, обращался к своему графу или королевскому чиновнику своей местности и просил его выполнить свой долг, защитить закон и наказать нарушителя: «Я ставлю самого себя и все, что имею, в защиту своего слова, и ты можешь на него положиться». Вся эта церемония была лишь адаптацией старой власти слов к новым условиям. Франки верили, что слова способны перевернуть мир. Отправляясь на суд, франк брал в руку посох или копье – чтобы его слова приобрели больший вес и силу убеждения, способную привести в действие необходимые рычаги, защитить или оправдать себя и наказать обидчика.
Шведы скрепляли свои соглашения «древком»: участники сделки и свидетели брались за древко копья и произносили слова клятвы. Скрепленный на древке уговор считался нерушимым.
Человек, отложивший меч в сторону, отличался от того, кто секунду назад стоял, держа его в руках; он превращался в лук с ослабленной стрелой. Аналогичным образом человек, поставивший ногу на святое место, отличался от того, который стоял там на двух ногах; но в тот самый момент, когда он убирал ногу с этого места или сходил со своего высокого сиденья, он уже не был таким, как раньше; вероятно, проходило какое-то время, прежде чем он становился похожим на своих товарищей. Человек не всегда был готов так быстро избавиться от своей человеческой святости; наоборот, он мог целенаправленно укреплять ее в себе. В тяжелые времена, когда необходимо было напрягать свою удачу изо всех сил, человек откладывал в сторону повседневные дела и жил исключительно тем, что она ему давала. Перед тем как войско выходило в поход, проводились определенные церемонии, о которых нам ничего не известно; они превращали воинов в священных борцов, и влияние этого посвящения проявлялось во фрите, который объединял их в единое целое, обладавшее той же прочностью, что и сообщество родственников. Нарушение солидарности в этом случае считалось страшным преступлением, и всю землю окутывала священная тишина; закон требовал, чтобы вся деловая активность прекращалась, пока армия воевала. Тацит писал, что, когда в лагере поселялись боги, сила суждения выпадала из рук главнокомандующего и переходила в руки жрецов, священных вождей храма. О святости свидетельствовали и волосы, не знавшие стрижки. После крупных поражений вроде того, которое саксы потерпели от свевов, они торжественно клялись не стричь волос и не брить бород, пока не отомстят за свой позор; они посвятили себя этому великому делу, подобно вождю германского племени батавов Цивилису, который поклялся уничтожить римские легионы, и Харальду Прекрасноволосому, когда он задумал свои завоевательные походы.
Молодые воины из племени хаттов проводили священное время юности в военных лагерях, и все это время их голов не касалась бритва, о чем находим свидетельство в сочинении Тацита: «Едва возмужав, они начинают отращивать волосы и отпускать бороду и дают обет не снимать этого обязывающего их к доблести покрова на голове и лице ранее, чем убьют врага. И лишь над его трупом и снятой с него добычей они открывают лицо, считая, что наконец уплатили сполна за свое рождение и стали достойны отечества и родителей; а трусливые и невоинственные так до конца дней и остаются при своем безобразии». Хатты, утверждает историк, не имели склонности к мирному труду: «У них нет ни поля, ни дома, и ни о чем они не несут забот. К кому бы они ни пришли, у того и кормятся, расточая чужое, не жалея своего, пока из-за немощной старости столь непреклонная доблесть не станет для них непосильной».
Воинское братство считалось нерушимым во всех германских землях, и в традиционных законах викингов Йомсборга сохранилось эхо суровой этики тех, кто посвятил себя войне. Ядром этого закона был «фрит воинов» или нерушимый мир среди бойцов; личные связи и личные предпочтения ничего не стоили по сравнению с верностью своему отряду; бойцы освобождались даже от родственных уз и обязательств, которые они накладывали; все вопросы решались вождем, а добычу делили поровну. Это священное единство отделяло людей от всего остального мира, и в особенности от повседневной жизни, где люди занимались мирным трудом и растили детей. Воинам запрещалось проводить ночь за пределами лагеря и иметь какие-либо отношения с женщинами.
Среди песен Старшей Эдды сохранилась поэма, которую можно назвать эпосом святости воина, – «Речи Хамдира» (Hamdismal). Прозаическое изложение содержания этой поэмы мало чем может нам помочь, поскольку более поздние авторы саг, очевидно, плохо знали уже устаревшую в их годы технику войны. Мы знаем лишь то, что Гудрун, отправляя своих сыновей отомстить за сестру, благословляет их в непробиваемых кольчугах и сообщает им правила, которые они не осмеливались нарушать. С неукротимой силой «святые бойцы» проложили себе путь в зал Ёрмунрекка-конунга и, не обращая никакого внимания на попытки его свиты отбить хозяина, превратили его в бесформенную груду костей и мяса, без рук и без ног. Но они нарушили данные им приказы и поэтому лишились плодов своей победы; Сёрли пал неподалеку от входа в зал, а Хамдир – у задней стены дома. Гибель подстерегла их в тот самый момент, когда Хамдир, желая похвастаться, забыл о приказе матери хранить молчание во время битвы; тогда Ёрмунрекк вернул себе разум и речь и сумел заставить своих людей увидеть, что могут сделать камни там, где оказалось бессильным железо. Но несчастья братьев начались еще раньше, вероятно, уже по пути, когда они встретили своего брата Эрпа и убили его во время спора; но само убийство, вероятно, не стало их единственным преступлением. Что подало Ёрмунрекку счастливую идею поискать помощи у камней? Один, как говорили герои саг, признал раз и навсегда, что бог должен прийти и быть там, где сражаются люди; в первом варианте этой истории, вероятно, приводилось объяснение, например гласившее, что братья сами превратили камни в своих врагов; перед тем как войти в зал короля, они, должно быть, каким-то образом оскорбили хамингью камня, которую их мать, вероятно, привлекла на их сторону в тот момент, когда превратила их кольчуги в непробиваемые. Но в чем была причина их поражения – в том ли, что на камень пролилась кровь Эрпа, или в каком-то другом действии, мы уже никогда не узнаем.
Там, где мужчины собирались, чтобы устроить дружеское состязание во время охоты или рыбалки, они тоже полагались на свою удачу и помещали себя под ее защиту. Нам сообщают, что ссоры по поводу богатых рыбой мест сводили на нет все их усилия, и мы знаем, что желание избежать поражения находило и другие способы выражения. Поэтому команда корабля считалась святой, а само судно было духовным аналогом дома – мы находим здесь ту же самую глубокую связь в размышлениях поэта, когда он называет дом кораблем очага. Украшения на его корме обладали той же силой, что и почетное сиденье хозяина; борт превращал слова клятвы в целое и полное, подобно тому как это делали копье и щит; проживание на корабле или около него давало человеку ценность домашнего мира.
Во времена, когда клан обновляется и приобретает великую силу, святость дома усиливается и обнимает своей силой всех. Домашний фрит превращается в праздничный фрит, а неприступность перерастает в неприкосновенность. Если во время жертвоприношения, свадьбы или тризны в доме происходит убийство, то совершивший его не находит себе места для раскаяния и становится вечным отщепенцем, «волком в святом месте». Святость дома так усиливается, что может даже проникнуть в рабов и передать им человеческую жизнь, как показано в шведских законах, где существовал эдикт, требовавший, чтобы за убийство раба во время одного из крупных праздников выплачивался полный штраф. Здесь слово «святой» достигает величайшей высоты, но и самого сурового звучания, как в шведских законах, когда пару новобрачных называют святой и этим словом обозначают места, где они сидят.
С фритом праздника, с совершенством домашней святости мы входим в тишину, которая царит в самом святом из домов, куда запрещено входить с оружием. Там, где открываются двери храма, удача сама себя объясняет, но здесь имеется еще кое-что, и, чтобы понять, что именно, мы должны перейти от мирской жизни к церковной. Но в реальности этот переход существует только для нас; для германского ума переход из человеческой жизни в божественную происходил непрерывно. В святости человек встречается с богами. Святое место – это место, где живут «силы».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.