Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
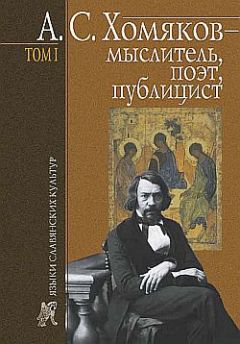
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 54 (всего у книги 65 страниц)
Полагая любовь благодатной, спасительной силой, питающей органический рост религиозно-общественного организма, Хомяков был особенно внимателен к тому ее лику, который обретает она в «домашней святыне семьи»[1225]1225
Хомяков А. С. Англия // Там же. С. 194.
[Закрыть]. Семейную любовь философ-славянофил знал не отвлеченно – известно его трепетное, благоговейное отношение к жене, Екатерине Михайловне Хомяковой (Языковой), и детям, рождение каждого из которых («нарастает семеечка») возбуждало в нем те чувства и понимания, что позднее будет испытывать герой Достоевского, присутствующий при родах жены: «Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих; новая мысль и новая любовь, даже страшно… И нет ничего выше на свете!»[1226]1226
Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 10. Л., 1974. С. 452.
[Закрыть] Философия любви Хомякова рождалась в семье – и в этом не было ничего удивительного. В отношениях отечески-сыновних и братских видел он тот идеально-должный образец межчеловеческих связей, который в христианском социуме должен стать нормой для всех. Позднее Достоевский в подготовительных материалах к «Братьям Карамазовым» запишет: «Семейство как практическое начало любви»[1227]1227
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Там же. Т. 15. Л., 1976. С. 249.
[Закрыть], что духовно перекликается не только с философом родства Н. Ф. Федоровым, идеи которого повлияли на замысел итогового романа писателя, но и с Хомяковым, полагавшим, что «семья есть тот круг, в котором для людей обыкновенных, то есть почти для всего человечества, осуществляется, воспитывается и развивается истинная, человеческая любовь; тот круг, в котором она переходит из отвлеченного понятия и бессильного стремления в живое и действительное проявление»[1228]1228
Хомяков А. С. Письмо к издателю Т. И. Филиппову. С. 285.
[Закрыть].
Хомяков, Достоевский, Федоров – все они вынашивали мысль о семействе как ячейке соборности, той живоносной, спасительной клеточке, из которой разрастается организм всеобщего единения и братства, видели в любви родственной горнило «всечеловеческой любви»[1229]1229
Там же.
[Закрыть]. «Семейство расширяется, вступают и неродные, заткалось начало нового организма»[1230]1230
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 249.
[Закрыть] – это еще одна цитата из Достоевского, находящая себе соответствия в писаниях Хомякова. В статье «Опера Глинки “Жизнь за царя”», размышляя о крестьянском обычае принимать в свои семьи сирот, Хомяков придает этому обычаю высший, религиозный смысл, видит в нем начаток того, что позднее Федоров назовет «природнением чужих»: «Семья не заключается в одних пределах вещественного родства; она расширяется чувством любви и принимает в недра свои тех, которых судьба лишила естественного и родного покрова»[1231]1231
Хомяков А. С. Опера Глинки «Жизнь за царя». С. 68.
[Закрыть].
Семья для Хомякова – основа единства человечества не только в настоящем, но и в прошедшем и будущем. «Взаимная любовь родителей и детей представляет тип той высокой человеческой любви, которая в роде человеческом соединяет поколение с поколением»[1232]1232
Хомяков А. С. Письмо к издателю Т. И. Филиппову. С. 285.
[Закрыть]. Позднее, развивая мысль Хомякова, Федоров будет не раз повторять, что преодоление неродственности и розни между людьми, священное «восстановление родства» осуществляется через семью, укорененную в роде, расширяющуюся не только синхронно, но и диахронно, семью, в которой дело братотворения по отношению к ныне живущим сочетается с делом отцетворения по отношению к уже ушедшим в небытие, семью, просветляющую лучами любви и мир вокруг нее, и толщу прошедшего времени, сквозь которую проступает образ первой семьи человеческой, давшей жизнь всему роду людскому в неповторимом и щедром многообразии лиц, характеров, судеб.
Из благоговения Хомякова перед «святыней семейной» рождался и его идеал брачной, муже-женской любви. Основа этой любви – духовное и телесное целомудрие, святость которого была внушена юному мыслителю еще его матерью, взявшей с братьев Федора и Алексея обет «строго блюсти свою чистоту» до тех пор, пока они не изберут «свою единственную», с которой пойдут к алтарю[1233]1233
Цит. по: Кошелев В. Алексей Степанович Хомяков: Жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000. С. 163.
[Закрыть]. И в религиозно-философских, и в литературных статьях, и в публицистике Хомяков выступает апологетом незапятнанного супружества, требуя сохранения добрачной девственности не только от женщин, но и от мужчин, коим общество лицемерно разрешает всевозможные «слабости». Включаясь в обсуждение вопроса о женской эмансипации, мыслитель убежденно заявляет, что стремление женщин выйти из-под власти семейных норм и традиций во многом представляет собой крайнюю, болезненную реакцию на узаконенный разврат мужчин, протест против общества, которое «живет в явной лжи, на слове признавая какой-нибудь закон, а на деле бессовестно и сознательно нарушая его»[1234]1234
Хомяков А. С. Письмо к издателю Т. И. Филиппову. С. 288.
[Закрыть]. «Для общества, – подчеркивает Хомяков, – предстоит впереди выбор неизбежный: или расширение пределов дозволенного разврата на женщину, или подчинение мужчины строгости нравственного закона»[1235]1235
Там же. С. 290.
[Закрыть]. И самый вопрос о свободе любви переводит, движимый все той же высшей, религиозной логикой, в плоскость вопроса не о правах, а об обязанностях – перед врученным тебе Богом другим человеком, перед его жизнью, перед теми, кто является в мир в результате этого союза любви, наконец, перед собственной бессмертной душой, которая грязнится нарушением заповеди.
У философа-славянофила находим мы ту религиозно-философскую трактовку целомудрия, которая затем будет развиваться и углубляться у Федорова, Соловьева, Бердяева, Вышеславцева… Целомудрие – свойство неповрежденного естества человека, чаемого «тела духовного», избавленного от жала греха и смерти. Человеческая душа отвращается от разврата, движимая «непобедимым чувством внутренней красоты», «скрытою любовью к своей собственной чистоте душевной»[1236]1236
Там же. С. 289.
[Закрыть]. Уже здесь, на земле, в условиях эмпирического, падшего бытия, подвластного закону «смерти и временности» (Н. А. Бердяев) должен человек возращать и пестовать в себе свою будущую бессмертную природу, просветлять в себе тот образ Божий, который в вечности воссияет во всей его силе и славе. Духовно-телесному преображению личности служит подвиг монашества. Но тому же служит и освященный Церковью брак, «святое соединение мужа и жены для образования семьи», «дар таинственный, налагающий на приемлющих его высокую обязанность взаимной любви и духовную святость», служащий облечению «грешного и вещественного» «в праведность и чистоту»[1237]1237
Хомяков А. С. Церковь одна. С. 15.
[Закрыть].
Религиозный смысл брака для Хомякова – возрастание брачующихся в духе и истине, «полнейшее осуществление высшего закона любви, принимающей чужую человеческую личность не средством наслаждения, а целию полнейшей нравственной жизни»[1238]1238
Хомяков А. С. Письмо к издателю Т. И. Филиппову. С. 284.
[Закрыть]. Как позднее выразится философ XX века А. К. Горский, многому наследовавший в философии любви Хомякова, Федорова, Соловьева: «Во всяком браке <…> оба его члена должны являться друг для друга иконами, т. е. путями восхождения к первообразу, а не тормозами на этих путях»[1239]1239
Горский А. К. Из писем 1939–40 годов // Горский А. К., Сетницкий Н. А. Соч. С. 282.
[Закрыть].
Святость брачных уз, определяемая их высшим заданием, – служить преображению любящих, для Хомякова была нерушима. Об этом философ неоднократно высказывался публично – вспомнить хотя бы выраженный в его излюбленной шутливо-ироничной манере запрет петербургским женам, даже тем, что «все блеск и трепет», «бросать своих мужей»[1240]1240
Хомяков А. С. Письмо к издателю Т. И. Филиппову. С. 279.
[Закрыть]. Возможно, поэтому, хотя с сочувствием, но в то же время и с некоторой дистанцией он относился к пушкинскому семейному сюжету. Ему претила страсть, над которой перестает властвовать воля. «Пушкин не оказал твердости в характере (но этого от него и ожидать было нельзя), ни тонкости, свойственной его чудному уму. Но страсть никогда умна быть не может», – так комментировал Хомяков известие о дуэли Пушкина в письме Н. М. Языкову[1241]1241
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1904. С. 86.
[Закрыть]. Сам же Алексей Степанович всегда держал свои страсти в узде, взяв на вооружение завет, который в свое время выразил тот же Пушкин устами Онегина: «Учитесь властвовать собою». В способности сдерживать страсти, подчиняя низшие влечения высшим, физическое естество – духу и сознанию, он полагал «необходимое условие» совершеннолетия личности. Он был строг и непримирим в требовании от существа, созданного по образу и подобию Божию, усилия восхождения, а не потворства своим душе-телесным слабостям: «Стоит только признать борьбы со страстями невозможною и она делается невозможною»[1242]1242
Хомяков А. С. Письмо к издателю Т. И. Филиппову. С. 290.
[Закрыть].
Следует уточнить: Хомяков вовсе не был против страсти как таковой, страсти как энергийного источника жизни, движения, творчества. «Что лучше: разум или страсть? Это вопрос очень важный. Разумом все управляется, но страстью все живет», – рассуждал он в одном из писем жене[1243]1243
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 15.
[Закрыть]. В полной мере следуя святоотеческому учению, он соглашался с тем, что страсть может быть трансформирована, обращена на дело благое, что она способна преобразиться при «умопременении» человека: стать влечением к идеалу, возжечь в «горячем сердце» любовь к Богу, к людям и миру. «Страсти совсем неплохи сами по себе, – напишет позднее Б. П. Вышеславцев, цитируя преп. Дионисия Ареопагита, – они “хороши в руках ревнителей доброй жизни”. Даже такие страсти, как “вожделение”, “сластолюбие”, “страх”, – допускают сублимацию: вожделение превращается в “стремительный порыв желания божественных благ”, сластолюбие – “в блаженство и восхищение ума божественными дарами”; страх – в боязнь ответственности за грех; печаль – в раскаяние»[1244]1244
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. С. 48.
[Закрыть].
Отсюда понятно, почему столь отрицательно относился Хомяков к явлению скопчества. Скопческое принудительное целомудрие, подчеркивал он, отсекая одну страсть, заменяет ее другой, «уменьшая круг страстей человеческих, развивает в большей силе страсти уцелевшие и дает им какое-то болезненно-фанатическое напряжение. В ряду этих страстей первое место занимает корыстолюбие»[1245]1245
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1914. С. 338.
[Закрыть]. Победа над страстью достигается здесь не трудом воздержания, не усилиями духа и души, берущими власть над своей телесной храминой и препятствующими естеству ниспасть в растление и разврат, а внешней механической операцией. В результате победа над страстью лишь иллюзорна. Страсть просто превращается из одной формы в другую и по-прежнему держит личность в липком и цепком плену. Позднее столь же негативно будет оценивать скопчество, это принудительное, тусклое целомудрие, достигаемое увечьем, внешним насилием над физическим естеством, и Достоевский. Вспомним образ дома Рогожина, где «все скопцы жили»: сухость, сумрачность, скука, а еще «темные комнаты, какой-то необыкновенной, холодной чистоты, холодно и сурово меблированные старинной мебелью в белых чистых чехлах»[1246]1246
Достоевский Ф. М. Идиот // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 8. Л., 1973. С. 185.
[Закрыть] – все это символы оскопленной, обеспложенной, остановившейся жизни, в которой навсегда угас огонь страсти, движенья, порыва. Между тем человек, вершина творенья, должен не топтаться на месте, а восходить, преображая и возвышая влечения, перерождая страсти. Именно так и происходит в последнем романе Достоевского с Дмитрием Карамазовым: страсть к кутежу и разврату сменяется жаждой высшего, искупительного страдания («За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти»[1247]1247
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Там же. Т. 15. С. 31.
[Закрыть]).
И в заключение о любви самого Хомякова к Екатерине Михайловне Языковой – любви, в которой он прямо и просто исполнял то, о чем столько писал и проповедовал в своих сочинениях. Трепетное, благоговейное отношение к любимому существу[1248]1248
Вспомнить хотя бы строки одного из немногих сохранившихся его писем к Китти: «Я ныне все был на ногах или верхом, и все думал: вот тут Kitty еще не была, этого еще не видала. Будь здорова, пожалуйста! Весело тебе будет здесь. Если только можно будет тебе ездить, лошадка для тебя прелесть; нарочно будто для тебя создана, маленькая, ножки струнки, головка резная. Я ее и гладил, и даже целовал, думал: может быть, Катенька на тебе будет ездить. Душа моя, зачем ты плакала? Знаешь, что мне до того было грустно с тобой расставаться, что я в коляске чуть-чуть не заплакал. <…> Котик, что твой котенок? Поверишь ли, мне даже по нем тоска, а кажись невзрачен. Как я вам желаю быть здоровыми, как я о Вас думаю! Целуй его за меня, крести, крести его за меня» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 11, 13).
[Закрыть], острое сознание его единственности и неповторимости в бытии, радость узнавания себя в другом, радость дарения себя другому, стремление остановить мгновение и мука последней утраты – через личный сердечный сюжет обретал философ-славянофил те понимания, которые потом не раз звучали в его статьях и брошюрах. И главное из них – необходимость бессмертия. Именно любовь с ее «непосредственным восприятием абсолютной ценности любимого»[1249]1249
Франк С. Л. С нами Бог: Три размышления. С. 207.
[Закрыть] ощущает и сознает всю недолжность смерти, именно любовь всеми силами стремится изъять любимого из-под власти всеуносящего времени. Протестуя против смерти, она протестует против развоплощения, против разрыва уникального единства тела, души и духа, жаждет преображающего восстановления личности.
В письмах П. М. и П. А. Бестужевым, перед которыми Алексей Степанович не боялся раскрываться душевно, не должен был прятаться за обычной дневной маской веселости и остроумия (от нее в коленопреклоненные, слезные ночные часы не оставалось и тени[1250]1250
Вот знаменитое воспоминание Ю. Ф. Самарина: «Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимою веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. <…> Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь… » (Татев-ский сборник. СПб., 1899. С. 133).
[Закрыть]), он постоянно говорит о своей милой Китти. «Деревня как нарочно так хороша, как никогда не была; я ее точно хорошо отделал для нее и сделал много посадок, которых она еще не видала: все принялись прекрасно. Через три-четыре года это будет обворожительно. Точно хожу (а хожу с детьми очень много) по ее разукрашенной могиле, а в то же самое время словно жду, что она откуда-нибудь да выйдет»[1251]1251
А. С. Хомяков – П. М. Бестужевой, 20–21 июня 1852 // Хомяковский сборник. Т. 1. Томск, 1998. С. 88.
[Закрыть]. «Каждая комната, каждый уголок сада, каждая дорожка в роще и в поле опять живо так заговорили о ней, что мне казалось: вот еще пройду несколько и встретимся»[1252]1252
А. С. Хомяков – П. М. Бестужевой, 7 июля 1853 // Там же. С. 117.
[Закрыть]. Все происходящее в имении, с ним и с детьми, все текущие, малые и большие, события жизни Хомяков проецирует на ее восприятие: как бы она их увидела, что бы сказала, что сделала – создает стойкую иллюзию ее соприсутствия, хотя бы в воображении, пусть через это условное, зыбкое «бы»: «Что-то Вы, милые Пикоть и Петруанец, – как сказала бы она, что-то Вы поделываете? <…> И как бы она читала про Ваше водяное путешествие, как бы смеялась Вашему страху, как бы хвасталась своею сравнительною храбростью и принесла бы мне все это прочесть и решила бы, что и мы к Вам поедем. Неужели ее вправду нет?»[1253]1253
А. С. Хомяков – П. М. и П. А. Бестужевым, вторая половина мая 1852 // Там же. С. 87.
[Закрыть] Само время жизни получает теперь новый, печальный и священный отсчет – со дня ее смерти: «В самое Рождество было ровно 100 недель. Каково человек крепко свинчен! Казалось, 100 дней невозможно прожить, а вот и 100 недель. Даже подумать страшно…»[1254]1254
А. С. Хомяков – П. М. и П. А. Бестужевым, начало января 1854 // Там же. С. 123.
[Закрыть]
В отношении Хомякова к смерти жены не было того экзистенциального отчаяния, которое разверзлось двенадцатью годами спустя в душе Тютчева после кончины Елены Денисьевой, когда, почти как герой «Кроткой», отчаянно восклицавший: «Слепая, слепая! Мертвая, не слышит!»[1255]1255
Достоевский Ф. М. Кроткая // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т Т. 24. Л., 1982. С. 35.
[Закрыть] – поэт бился в глухом тупике безнадежности. Хомяков сумел принять то, что случилось, смиренно, без бунта, без ропота на Творца («Воля Божия дала мне то, чего, казалось, никому не давала, и отняла, когда следовало»[1256]1256
А. С. Хомяков – П. М. Бестужевой, 12 июля 1852 // Хомяковский сборник. Т. 1.
[Закрыть]). Но не скорбеть, забыть он не мог. Забвению и успокоению сопротивлялась сама природа той «искренней, истинной и деятельной любви»[1257]1257
Хомяков А. С. Письмо к издателю Т. И. Филиппову. С. 284.
[Закрыть], которую он так искренне и горячо проповедовал. И не о том, что любимой уже нет рядом с ним, сердечно сокрушался мыслитель, а о том, что теперь, когда она ушла из мира живых, он уже ничего не может сделать для той, которой всегда был готов отдать всю свою душу.
Как христианин, он исполнял положенные обряды поминовения. Заказывал обедни и панихиды, молился ежедневно и еженощно за упокой души своей Катеньки. Но все же это не утишало страдания сердца, жаждущего немедленной. встречи, реального, земного присутствия – и не одной лишь бесплотной души, а именно всего человека, в единственности и неповторимости его телесного облика, столь хрупкого, столь обожаемого. И вот он уже стремится уловить этот драгоценный, тающий облик – восстановить его хотя бы мысленно, в воспоминании, разглядеть черты ушедшей в лицах детей, особенно старшей Марии, запечатлеть в письмах родным драгоценные подробности ее жизни, особенности характера, вкусов и настроений… Но главное – это портреты Екатерины Михайловны, которые после ее смерти Хомяков рисует во множестве. Не имея возможности вернуть умершую к жизни, он восстановляет ее хотя бы в красках и на полотне (то самое «мнимое воскрешение», что, по Федорову, лежит у истоков возникновения человека и являет собой глубинную сущность культуры). При этом упорно добивается сходства, стремится, чтобы портрет передавал целостный облик умершей, создавал у смотрящего на него иллюзию, что женщина, изображенная на полотне, не умерла, что вот-вот она, мертвая, встанет. «Недаром Вы оставили мне дагерротип, – пишет он П. М. Бестужевой, – я по нем сделал портрет, далеко еще не конченный, но до того похожий и живой, что ждет движения. Странное лицо! Несколько портретов и все похожи на нее, а все разные. Это от того, что у нее самой было беспрестанное изменение, она не могла приглядеться потому, что всякую минуту было другое выражение и, кажется, другие черты. Это было не лицо, а видимая душа»[1258]1258
А. С. Хомяков – П. М. Бестужевой, 2 июля 1852 // Хомяковский сборник. Т. 1. С. 90.
[Закрыть].
В настойчивом стремлении Хомякова запечатлеть облик умершей жены не было и тени маловерия. Напротив, мыслитель-славянофил демонстрировал те глубины христианского чувства и задания, к пониманию которых русская религиозно-философская мысль придет лишь во второй половине XIX и начале XX века, выдвинув идеал богочеловечества, активного христианства, соработничества Бога и человека в деле спасения мира. Даст она и высшее утверждение религиозного смысла любви. Ибо любовь, деятельная любовь по самому своему существу, не может только смиряться, ждать и молиться. Она должна действовать и содействовать, идти навстречу Творцу в приближении светлого дня воскресения, когда все восстанут и все обрящут друг друга. Художество Хомякова, перекликавшееся через толщу эпох и времен с искусством фаюмского, погребального портрета, и было тем самым содействием сознающего, чувствующего существа Богу, Который не создал смерти и желает спасения всем. Тут философ-художник не просто молился за упокоение души рабы Божией Екатерины в селениях праведных. Здесь он, пусть мысленно, возвращал плоть тому, что уже не существовало, вызывал из небытия тающий облик умершей, не давая ему раствориться, исчезнуть во всеуносящем потоке забвенья.
Да, по мере того, как похороны Катеньки отдалялись во времени, боль утраты становилась слабее, к Хомякову приходило успокоение. Он справляется с собственным сердцем, все сильнее укрепляется в понимании, что нынешний эмпирический мир не может дать смертному полного и абсолютного счастья. А подчас с его пера срываются строки, которых никогда не понял и не принял бы тот же Тютчев, дважды переживший кончину своей половинки – сначала с первой женой Элеонорой, потом – с Еленой Денисьевой:
Не угодно Богу было, что я бы порадовался Катенькиной радости при таких занятиях моих, а как бы от души радовалась она! Но при ней сделал ли бы я это? Так жить было весело! И первую-то книжечку я написал в тот год, как ее не стало и когда мысль моя приняла более серьезное направление. Милая моя! Она ничем не дорожила, кроме серьезного; и все это в ней соединялось с самым детским весельем. Нечего сказать, ей подобную не вдруг кто сыщет. А как вспомнишь, так, кажется, что ей и следовало умереть рано: она, право, чуть-чуть земли касалась, хотя редко кто умел так глубоко, как она, наслаждаться истинно хорошим на земле, и вот, в октябре миновало ни мало, ни много тысяча дней после ее кончины. Вспомнишь, «и тысяча лет яко день един».[1259]1259
А. С. Хомяков – П. М. Бестужевой, ноябрь 1854 // Там же. С. 132.
[Закрыть]
Такая вот терапия души: хорошо что умерла рано, ибо была не от мира сего. И даже его труд богословский, невозможный при прежнем счастии и веселости, выступает как оправдание этой безвременной смерти. Открывается промысел там, где ранее и помыслить нельзя было промысла: не сам ли Хомяков, повторяющий теперь: «Воля Божия, и воля Божия всегда к благу»[1260]1260
А. С. Хомяков – П. М. Бестужевой, начало января 1855 // Там же. С. 133.
[Закрыть], так настойчиво предупреждал верующих своих современников от соблазна видеть промысел в каждом земном происшествии, призывая их не смешивать с Богом слепые случайности[1261]1261
См., напр., его письмо А. И. Кошелеву, датируемое 1854 годом (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 135–136).
[Закрыть].
И все же, несмотря на конечную примиренность с утратой, несмотря на цитации из «Псалтири»: «Дни наши семьдесят лет, аще же в силах, восемьдесят лет», – последнее слово Хомякова в его истории любви было другим. Кульминационной точкой этой истории, апофеозом верующей, благодарящей любви философа-славянофила стало стихотворение «Воскресение Лазаря», написанное осенью 1852 года, когда «в сонном видении» Хомякову явилась Китти и сказала: «Не унывай!»[1262]1262
Кошелев В. Алексей Степанович Хомяков. С. 397.
[Закрыть]:
О Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно ты сказал,
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.
Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь «встань!» душе моей,
И мертвая из гроба встанет
И выйдет в свет Твоих лучей!
И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас
Тебе – сиянью Отчей славы,
Тебе – умершему за нас.
«И мертвая из гроба встанет / И выйдет в свет Твоих лучей!» – Хомяков говорит здесь о своей унывающей и скорбной душе, жаждет избавления из-под власти отчаяния и сомнений, уповает на духовное преображение. Но этим очевидным, лежащим на поверхности смыслом не исчерпывается содержание стихотворения. Достаточно вспомнить, как характеризовал его сам Хомяков: «Первое, мною написанное после смерти той, которая так радовалась всегда, когда мне удастся что-нибудь написать, и которая первая слушала мои стихи и обыкновенно помнила их наизусть»[1263]1263
А. С. Хомяков – П. М. и П. А. Бестужевым, 31 октября 1852 // Хомяковский сборник. Т. 1. С. 103.
[Закрыть], – и за образом взыскующей исцеленья души встанет видение той, что уже завершила свой путь на земле и теперь чает грядущего «воскресения мертвых и жизни будущего века». А ведь именно это чаяние и есть предельное чаяние религиозной любви, ее конечная цель и высшее оправдание.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































