Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
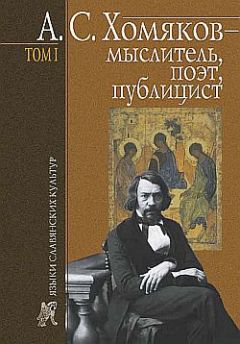
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 65 страниц)
Такая позиция предстает теологуменом. Истоком ее является двойная шкала ценностей. Хомяков к этой проблеме подходит от Абсолюта (отсюда его ригоризм) и из тварной проекции, усугубляющей в Сыне (Эмману-Иле) любящее начало. У Хомякова Бог и включен в единство и пребывает над ним как его исток. Его «релятивность» оживлена диалектическим и диалогическим началом.
Похоже, на рубеже тысячелетий мысль выходит из александрийской синкрезии и эклектики, а вместе с тем из дуализма. Кажется, вековой порыв завершается прорывом, очарование магии в области мысли преодолено, круг разорван. В истории это происходило многократно. И горизонт понимания вновь затягивался. Сейчас прорыв осуществляется не на мифопоэтическом и метафизическом уровне, а в единстве религиозной мысли. Опыт исихии показывает, что личность способна к саморегуляции. Для этого необходимо внимание аксиологическому критерию, аскезе ума, технике трезвения, которая не определяет, но организует опыт молитвы.
Аристотелианско-аквинатское умозрение здесь неприемлемо. Необходимо его оплодотворение исихастским опытом и выражение на языке иного богословия. Аксиологизация, инструментализация в русле патристики, позволяя придать личному опыту соборный статус, предстает задачей дня[904]904
«Условием Kehre русской мысли, или <…> одним из <…> факторов, закрепляющих этот поворот, может явиться разработка теории ценностей, способной стать эффективным инструментом деконструкции традиционной метафизики aбсолюта и возводящей преимущественно психологическую борьбу с идеализмом в ранг концептуально и систематически обоснованного направления. <…> Теория ценности все еще остается концептуальным заданием русской философии» (Герасимов Д. Н.).
[Закрыть]. Этим и актуален славянофильский опыт «монастыря и мира».
Жажда идеала подвела Хомякова к потребности решения такой дилеммы. Помимо привычного спасения мира через монастырь в их отношениях открывается дополнительный момент необходимости мира – монастырю. Понятно, что мир невозможно превратить в монастырь, как нежелательна экспансия мира в иномирность. Но ситуация замкнутости монастыря «в себе» чревата изоляцией и регрессией, что побуждает к выходу за собственную данность с сохранением мистико-аскетического призвания. Так Хомякову открылась перспектива аскезы в миру. Его путь пролег через «пустыню мира» (Мандельштам)[905]905
«Нам целый мир – пустыня», «В пустыне мрачной и глухой», «В пустыне мрачной я влачился» (Пушкин).
[Закрыть]. Философ обживает пространство монастыря в миру через церковный канон и социальное творчество[906]906
«Одна из самых трудных и сложных проблем православной аскетики – соотношение индивидуальных и социальных начал в аскетической концепции спасения» (Хоружий С. Серебряный век России как культурфилософский феномен // Богословские труды. М., 1997. № 33. С. 233–245. Размещено в Интернете).
[Закрыть].
Спекулятивная неразрешимость противостояния монастыря и мира, любви к Богу и к ближнему вынуждала к переводу интуиции в мирскую сферу. В преодолении умозрения практикой заключается отличие русской мысли; то, что предстает задачей для европейского ума, у нас – жизненное задание, в котором мысль неразрывно связана с делом.
В этой решимости к действию Хомяков глубоко национален, народен, преодолевает комплексы «разлагающей» рефлексии. Расщепление мысли и действия он исцеляет целеустремленностью, затянувшиеся узлы рубит. В этом плане Бердяев преувеличивает, приписывая русской душе «вечно бабье»; при отсутствии технологизма в ней есть рыцарское начало. Огненная стихия – далеко не «женское» дело.
Задачей Хомякова была выработка условий встречи Творца и твари, обожения мира. Но его соборность споткнулась о дуалистический монизм. Препятствием стала сама ситуация разъединения, требующая разрешения. Не так мешала односторонность взгляда, как отсутствие приема коррекции.
Противоречие Хомякова заключалось в установке на неповрежденность духа в личности с очевидной его неполнотой. Как преодолеть то, чего «как бы» нет, не должно быть? Как идеалу существовать в мире? – Ответ один: литургийно, христоподобно[907]907
«Рабий зрак» Христа «рабствует» смерти. У Хомякова же грех сугубо многолик, поскольку внедуховен.
[Закрыть]. Соборная личность проявляется не в киновийном лишь или отшельническом служении, а через аскезу в миру.
«Боковое» ответвление в опыте аскезы образовалось из «отклонения» от основного хода, из распада единства аскезы и мистики. Это был опасный, с односторонним движением ход: аскеза отвечала волевым помыслам, мистика – нет. Но для динамики был необходим дисбаланс, дающий толчок.
Христоподражание предполагает вопрос: в чем подражание? Только ли в социально-нравственном крестоношении, труде восхождения, «трагизме» распятия и «богооставленности» или и в рождающейся из скорби пасхальной радости («…иго Мое благо и бремя Мое легко»). Этого единства Хомяков не разрушает. Задача ума совпадала с его устремлением, формируя потребность несения тягла. Цель указывала путь к ней: исполнение заповеди любви к Богу через заботу о ближнем. В социальном служении открывалось единство Церкви как тела духовного. В этом пункте Хомяков христиански «мистичен», чужд иной мистике.
Конечно, гениальный порыв опережал средства осуществления: монашество в миру оказалось преждевременным заданием человеку, не имеющему школы и вкуса к мистике и анахоретству. Порыв умерялся невозможностью скорой реализации уже в силу неполноты его осознания.
Но устремление обрело отчетливое направление, форму, импульс. Это было перспективно: ущерб восполнялся его подобием, но не тождеством с ним; в повреждении открывалось средство исцеления[908]908
«Свет во тьме светит, и тьма не объяла его», рожден во тьме мира, но не от тьмы его: «смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» как потенция исхода.
[Закрыть]. В категориальном плане это означало обнаружение в соборном личного, в аскетике, в обряде мистической связи – сущего. Недостаток системности и метода, строгости мысли, отсутствие личной мистики, опыта послушания восполнялось дисциплиной воли, импульсом самоотвержения. Так соборность Хомякова преодолевает свой органицизм. Его методом выступает становление истины, ее взыскание. Жизнь во Христе утверждается как единственный путь теозиса.
Если уточнять соотношение новации и традиции у Хомякова, то следует отметить, что порыв выхода аскезы в мир (отвечающий опыту и старого обряда) не был подкреплен «технически»: богообщение в мысли оставалось на уровне Тертуллиана, едва ли не Оригена, с рудиментами платонова идеализма и ветхозаветности. Недостаток метода Хомяков восполнял интуицией, навыком взыскания и благочестия. Благодаря верности правде Божьей и ее канону Хомяков не впал в «раскол», чем бывает чреват морализирующий ум.
Соловьев пытался осуществить свой вариант выхода, но его синтез был эклектичен. Требовалась поверка гносеологии онтологией святых отцов. Лишь в ситуации катастрофы старчество, даруя опыт богословствования в духовном единстве мысли, чувства, воли выходит из скита. Для мира оно там и зрело[909]909
Это призвание обозначил в своем Алеше Достоевский. См. упоминавшуюся статью С. Хоружего, литературу о московском старце Алексее Мечеве в журнале «Альфа и омега» (2000. № 1).
[Закрыть].
В Хомякове отразились уровни становления богословской мысли, ее потенции. Оценивая современной ее уровень, отметим этапы динамики.
1. Безликий «миф» эйдетических «Диалогов» Платона был преодолен лично-соборным, диалогическим опытом отцов-каппадокийцев[910]910
Этот опыт был отчасти утрачен схоластикой, но полностью сохранялся в аскезе. Возврат к нему происходит со 2-й трети ХХ века. Хомяков знаменует собой философский поворот.
[Закрыть]. 2. Свт. Григорий Палама завершил смену энтелехийной диалектики Аристотеля синергией божественных и тварных энергий[911]911
С. С. Хоружий осмысляет этот опыт на языке философских категорий, переводит его в мирской аспект.
[Закрыть]. 3. «Неопатристикой» акцентирована иерархическая связь единосущия (омоусия) и подобосущия (омиусия).
Замкнуть, исполнить логическую пирамиду призвана синкрезия метода и смысла в аксиологии, что составляет задачу нынешнего дня. Аксиология должна стать методологической основой давно назревшей смены содержания, формы, их ценностной связи на уровне приемов умного трезвения[912]912
Отметим, что свтт. Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник уклонялись от технизации умного делания, творения Иисусовой молитвы, резонно видя в ней искушение. Этот вопрос требует отдельного разговора.
[Закрыть], что позволяет осуществить послушание в миру как синергийный метод, единство православной мистики и творческой аскезы.
Это и есть развитие паламизма (энергизма исихии) в возврате к патристике. Здесь обнаруживается провиденциальный смысл «уклонений» Хомякова, знаменующих поворот культуры к монастырю. Но следует помнить, что монашество в миру (налагаемое на себя своевольно как «рыцарское» служение) чревато искушением при отсутствии опыта Иисусовой молитвы. Иммунитет вырабатывается лишь полнотой жизни в Предании. С этим связано предостережение жизненно-философского ряда: аксиологический опыт, метод раскрытия «становящейся» в бытии истины никоим образом не может подменять ее надмирной онтологии, ее самое как сверхличного средства и цели для нас, жертвенного нам дара.
Е. Н. Цимбаева
А. С. Хомяков в полемике славянофилов и русских католиков по вопросам Вселенской Церкви
Общественно-историческое звучание идеи Вселенской Церкви в России 1-й половины XIX века было сформулировано в «Философических письмах» П. Я. Чаадаева. По его мнению, воссоединение церквей отвечало прежде всего интересам русского общества, поскольку выводило православное духовенство – естественного нравственного руководителя народа – из-под власти николаевского режима. Переход русской церкви под эгиду римского папы, согласно Чаадаеву, не должен был привести к отказу от православных обрядов и символов веры, напротив, вызвал бы реформы в католической церкви и обеспечил бы истинную свободу русским священникам, превратившимся со времен Петра I в служителей казенного культа. Эта сторона чаадаевского учения была воспринята русскими католиками середины XIX века, стремившимися воплотить в жизнь идеал христианского всеединства.
Основными идейными противниками русских католиков, считавшихся в николаевскую эпоху государственными преступниками и потому вынужденно пребывавшими в эмиграции, были не представители правительства или духовенства, а славянофилы в лице А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина, И. В. Киреевского и И. С. Аксакова. Полемика между славянофилами и русскими католиками (И. С. Гагариным, И. М. Мартыновым) длилась с 1842 по 1870-е годы и, хотя не привела к существенным результатам, интересна с точки зрения уяснения идей обоих течений российской общественной мысли.
Несмотря на внешние разногласия, стороны имели немало точек соприкосновения, объяснявшихся сходством взглядов на российскую действительность, свойственных представителям дворянского либерализма. Хомяков и Гагарин равно признавали возможность церковного единства в многообразии. Хомяков трактовал слово «кафолическая» как «единство во множестве… Церковь кафолическая есть Церковь “согласно всему”, или “согласно единству всех”, Церковь свободного единодушия. <…> Церковь, в которой нет больше народностей, нет ни греков, ни варваров, нет различий по состоянию» («Церковь одна»). В свою очередь Гагарин так характеризовал идеальную церковь: «Она должна быть: 1. духовная; 2. единая; 3. всемирная; 4. независимая от народов»[913]913
Цит. по кн.: Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. М. 1999. С. 117.
[Закрыть]. Многие исследователи в Хомякове и Гагарине видят предтечей постановлений II Ватиканского конгресса о введении национальных языков в католическое богослужение.
Гагарин постоянно ратовал за это, в том числе в своей книге «Будет ли Россия католической?» Важность этого вопроса признал Хомяков, комментируя данное место: «Удалось ли наконец латинянам понять, как понимает это церковь, что чуждый язык не должен разлучать верных с молитвою церкви, человека с словом Божиим? Если это действительно допущено как принцип, имеющий быть примененным ко всем народам, о! тогда мы можем сказать: да будет благословен Господь, “ниспославший луч света своего во мрак векового заблуждения”» («Еще несколько слов православного христианина…»).
Высказывая схожие суждения о «единстве в многообразии», противники решительно расходились в вопросе о догматах католичества и Православия, из которых важнейшим им представлялся догмат о первенстве папы. Различное понимание смысла первенства римского престола заставляло славянофилов и православную церковь категорически отвергать его, а Чаадаева с Гагариным – твердо отстаивать.
В глазах Самарина «всемирное господство являлось искони идеалом латинского Запада и было целью всех его стремлений, основным побуждением всех его подвигов. <…> Свойство Вселенскости исказили до понятия о всемирном обладании, религиозная пропаганда приняла характер завоевательного стремления. Все историческое развитие западной церкви или лучше церковного государства было только осуществлением и приложением на деле этой основной мысли»[914]914
Цит. по: Символ. 1979. № 2. С. 173–174.
[Закрыть].
О том же пишет Хомяков: «Государство земное заняло место церкви Христовой. Единый живой закон единения в Боге вытеснен был частными законами, носящими на себе отпечаток утилитаризма и правовых отношений. Рационализм развился в форме властительских определений» («Несколько слов православного христианина… По поводу брошюры г. Лоранси»).
Во всех случаях вопрос о власти папы переводится в плоскость политическую, в ней видится, как в давние века, угроза национальной самобытности России. В полемических целях понятие «католическая церковь» неправомерно уравнивается с понятием «папское государство», и Риму припоминают все преступления и гонения, которые были свойственны ему в эпоху Средневековья или инквизиции.
Напротив, в трактовке первенства папы Гагариным или Чаадаевым политические мотивы полностью отсутствуют. Папа для них есть не только живое воплощение духовного единства, но прежде всего гарант идейной независимости церкви и паствы от подчинения правительству в области идеологии. Переводя эту мысль на язык российских реалий середины века, признание папы главою церкви есть действенное орудие борьбы с официальной идеологией в духе уваровской триады «православия, самодержавия и народности».
Даже прежняя история римского престола не представляется Гагарину в столь однозначном свете, как его оппонентам. Отвечая Самарину, он пишет: «Папа есть ли мирской властелин католических народов? Он ли пишет законы, заключает договоры, объявляет войну? Мысль государства и церкви слита ли в одно? ты мне укажешь на другие века? что же я вижу? борьбу вековую между властью духовной и властью светской; следовательно, они обе существовали, если боролись одна с другой. И которая победила? которая уничтожила соперницу? не надобно ли переделать всю историю, чтобы в мире католическом церковь была государством?»[915]915
Там же. 1980. № 3. С. 159.
[Закрыть].
В середине XIX века значение папского государства как государства полностью исчезает, но растет роль папы как символа христианского единства и церковной независимости. В двух работах 1856 года – «Будет ли Россия католической?» и «Об изучении теологии в русской церкви» – Гагарин предлагает русскому духовенству признать первенство папы в обмен на избавление от унизительной зависимости от правительства. Возражая, Хомяков отвергает саму идею договора, «трактата», видя в этом что-то сугубо рационалистическое, но, по существу, скорее, подтверждает мысль Гагарина: «Как христиане, мы живем в государстве, но мы не от государства. <…> Клир в действительности <…> христианский есть непременно клир свободный» («Еще несколько слов…»). Принимая во внимание очевидную несвободу русского духовенства, остается сделать вывод, что Хомяков просто отвергает свободу, купленную ценой компромисса в догматах.
Механизм воссоединения церквей также трактуется различно. Для Гагарина реализация идеи Вселенской Церкви не представляется затруднительной: «Вы признаете непогрешимый авторитет Вселенского Собора, мы признаем его так же. Следовательно, Вселенский Собор, признанный обеими сторонами, на котором присутствовали бы и восточные, и западные патриархи и епископы, обладал бы всей необходимой властью, дабы положить конец вековому разделу»[916]916
Цит. по: Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. С. 123
[Закрыть]. Хомяков ставит вопрос непримиримо наоборот: «Собор дотоле невозможен, пока Западный мир <…> не вернется к первобытному символу и не подчинит своего мнения, которым он был поврежден, суду вселенской веры. <…> Итак, не собор закроет пропасть; она должна быть закрыта, прежде чем соберется собор» («Несколько слов православного христианина… По поводу брошюры г. Лоранси»).
Однако, с точки зрения истории русской общественной мысли, важны не столько сходства и различия позиций славянофилов и их противников, сколько сама постановка вопроса освобождения православной церкви от подчинения светской власти. Как в полемике славянофилов и западников не столько решались вопросы будущего развития России (дворянские интеллигенты не властны были его определять и направлять), сколько подготовлялся реально возможный его вариант, так и в полемике с русскими католиками впервые в острой форме был поставлен не абстрактный вопрос о Вселенской Церкви, а жгуче актуальный вопрос о введении свободы совести и – шире – идейной свободы, свободы мысли в России. И в пору николаевской политики «официальной народности», и в пору «Великих реформ» проблема духовного «единства в многообразии» российского населения полностью игнорировалась правительством либо решалась в духе унификации (как при русификации Польши, против которой решительно боролись Гагарин, Мартынов и другие русские католики). Утопичность идеи воссоединения церквей в постановке и славянофилов, и русских католиков, бессмысленность попыток ее воплощения (поскольку ни те, ни другие не говорили от лица представляемых ими конфессий) не могу заслонить глубокого общественного смысла этой идеи. Бесплодность их незаконченного спора определилась сложностью самого идеала свободомыслия, так и не достигнутого в России ни в XIX веке, ни в последующие эпохи.
К. М. Антонов
Миссионерские стратегии и тактики А. С. Хомякова
Ю. Ф. Самарин первым написал об удивительном сочетании чрезвычайной многосторонности занятий Хомякова и полной внутренней цельности и сосредоточенности его натуры[917]917
Самарин Ю. Ф. Предисловие // Хомяков А. С. Соч. М., 1891. Т. VI. С. 339–340. Надо сказать, что в своей реконструкции духовного облика Хомякова Самарин, похоже, выстраивал свои личные впечатления в соответствии с воспринятыми им антропологическими идеями И. В. Киреевского, в частности с его концепцией «цельной личности», что, разумеется, не умаляет важности проделанной им работы, тем более что эта концепция, в свою очередь, возникла в непосредственной связи с жизненной практикой самих славянофилов.
[Закрыть]. С тех пор это представление стало общим местом, своего рода мифом, который, как и всякий миф, нуждается в исторической критике и проверке[918]918
Об этом писали практически все, кто так или иначе характеризовал личность и деятельность Хомякова. Достаточно упомянуть Н. А. Бердяева, Е. Скобцову, Н. С. Арсеньева, Б. Ф. Егорова, В. А. Кошелева.
[Закрыть]. Можно ли в действительности все разнообразие видов деятельности Хомякова свести к какой-нибудь одной, главной, к которой все остальные будут относиться как средства к цели?
Наибольшие шансы занять место такой основной деятельности в структуре личности и творчества Хомякова имеет христианская миссия. Именно как миссионер он представал перед своими современниками, будь то верный ученик и последователь Самарин или же религиозный и идейный противник Герцен.
Прежде всего важно понять сам характер этой деятельности, ее объект, основную цель, стратегические задачи, тактические приемы и попытаться увидеть, как связаны с нею остальные элементы его творчества: богословие, философия, эстетика, философия истории. Если они предстанут как опыты решения стратегических и тактических задач христианской миссии, то такая реконструкция может рассматриваться как успешная.
Чтобы лучше понять исторические обстоятельства, смысл и характер хомяковской миссии, необходимо обратиться к свидетельствам современников мыслителя.
Наибольший материал дает здесь, разумеется, известное предисловие Ю. Ф. Самарина к изданию богословских сочинений А. С. Хомякова. В характеристике, что Хомяков – «учитель Церкви», как и предвидел Самарин, чаще всего видят недопустимое преувеличение, оправдываемое только дружескими и ученическими чувствами. Между тем в действительности это вообще не титулование, но точное определение того служения, которое нес Хомяков в Церкви, служения дидаскала. Самарин уточняет свою мысль: учитель Церкви – это тот, «кому давалось логическим уяснением той или иной стороны церковного учения одержать для Церкви над тем или другим заблуждением решительную победу»[919]919
Самарин Ю. Ф. Предисловие. С. 369.
[Закрыть].
Со времен древней Церкви, св. Иустина Философа и Климента Александрийского служение дидаскала неотделимо от служения миссионера, которые соединяются в одном служении апологета. В творчестве того или иного мыслителя они могут быть различены сообразно интенции произведения или даже его отрывка. Обращение к внешним целям увещательного слова, протрептика, будет осуществлением миссии; обращение поучения к внутренним – учительством. Однако они не могут быть реально разделены, поскольку убедить или переубедить иноверца, еретика, отступника может лишь тот, кто обладает от Бога соответствующим благодатным даром гнозиса. Хомяков, безусловно, им обладал. Как говорит Самарин, «он выяснял и выяснил идею Церкви в логическом ее определении»[920]920
Там же. С. 351.
[Закрыть]. Таким образом, Хомяков оказывается учителем Церкви вдвойне, выяснив для нее учение о себе самой.
Тем самым фиксируется двойственная направленность хомяковской мысли, характерная именно для апологетики: она направлена одновременно вовне, в отпадшее от Церкви образованное общество, и внутрь, в само общество церковное. Самарин отмечает чрезвычайно важный момент: речь Хомякова направлена внутрь Церкви прежде всего постольку, поскольку в саму Церковь проникло обмирщение и стерлась граница между Церковью и миром. В результате «среда, в которой родился, жил и умер Хомяков», т. е. поле его миссионерской деятельности, определяется четырьмя видами неверия: научным, бюрократическим, бытовым и «неверием от недоразумений»[921]921
Там же. С. 331–337.
[Закрыть]. Все они проявляются, хотя и по-разному, в жизни и общества, и Церкви.
Православная церковная школа восприняла в себя начала западного «подчинения веры внешним для нее целям официального консерватизма»[922]922
Там же. С. 333.
[Закрыть]. С точки зрения Самарина (и самого Хомякова), именно это сделало ее бессильной противостоять последовательному развитию рационалистических идей: «Две брошюры Бюхнера, да две или три книжки Молешотта и Фохта, да Жизнь Христа Ренана (даже не Штрауса), да десяток статей Добролюбова и Герцена, и дело было сделано»[923]923
Там же. С. 366.
[Закрыть]. Больше того, можно сказать, что обмирщение Церкви, вторжение рационализации и бюрократии спровоцировали отпадение общества и культуры от Церкви.
Вопрос о правоте Самарина довольно сложный. Ясно лишь, что он, по-видимому, довольно точно реконструирует то видение исторической реальности, которое было присуще не только ему лично и Хомякову, но и всему славянофильскому кружку, по крайней мере его старшему поколению[924]924
В подтверждение можно привести отрывок из письма И. В. Киреевского А. И. Коше-леву: «Удовлетворительного богословия у нас нет…» (см.: Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева. М., 1893. Т. 2. С. 100). Аналогичен отзыв самого Хомякова (по поводу Догматического богословия митр. Макария) в письме к А. Панову: «Стыдно, что богословие как наука так далеко отстала или так страшно запутана» (цит. по: Хомяков А. С. Избр. соч. НьюЙорк, 1955. С. 348–349). Этот мотив был определяющим не только для деятельности различных направлений русской религиозной философии, но и для таких мыслителей, как, например, М. А. Новоселов.
[Закрыть]. Тем самым он вскрывает их (и свои собственные) побудительные мотивы.
При этом определяется и объект этой деятельности – русское образованное общество, характер которого И. В. Киреевский очень точно определил словами: «европейско-русское просвещение». В нем Хомяков выделял преимущественно ту его часть, которая пала жертвой неверия от недоразумений. Обращение этого общества, возвращение его к церковным истокам бытия было целью славянофильской миссии. Для этого необходимо было отыскать эти истоки, в самом церковном бытии различить церковное и мирское, внутреннее и внешнее, вечное и историческое, изменчивое. Важно было разработать учение о Церкви и прояснить генеалогию обмирщения.
Хомяков не пережил религиозного обращения в явном виде. Он никогда не терял веры и потому не прошел обычный для подавляющего большинства русских религиозных философов цикл: детская религиозность – юношеская потеря веры – обращение. Все обстоятельства говорят о том, что Хомяков глубоко прочувствовал судьбу русской интеллигенции, пережил ее в своем сознании как некоторую возможность, реализовать которую, однако, сознательно отказался: «Он хорошо знал, продумал и прочувствовал все то, чем в наше время колеблется и подрывается вера <…>, – пишет Самарин. – И при всем том его убеждения не пошатнулись»[925]925
Самарин Ю. Ф. Предисловие. С. 345.
[Закрыть]. Все, что мы знаем о его деятельности, и находим в его писаниях, говорит о том, что точкой отталкивания для него стала логика развития европейского секулярного сознания от внесения первых элементов рационализма в католичестве до торжества этого рационализма в младогегельянстве и материализме середины XIX века.
Проследив эту логику (первоначально, вероятно, в значительной мере интуитивно) и сделав выбор, заняв определенную творческую позицию, Хомяков выступил со своей проповедью, со своим «направлением». Философская ясность этой позиции была обретена в результате его встречи с И. В. Киреевским, в обращении которого Хомяков сыграл не решающую, но, по-видимому, очень важную роль. Именно Киреевский в «Ответе А. С. Хомякову», и особенно в статье «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России»[926]926
Хомяков ссылается на эту статью Киреевского как на точку отсчета славянофильской философии в письме к Ю. Ф. Самарину «О современных явлениях в области философии» (Хомяков А. С. Соч. М., 1904. Т. 1. С. 290–291).
[Закрыть], проследил указанную логику и придал славянофильской позиции необходимую отчетливость и законченность. Действительно, Хомяков сыграл решающую роль в религиозном обращении К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина, «русское направление» которых до встречи со старшими славянофилами было только культурным возвращением[927]927
О встрече Хомякова и молодежи 1830-х годов см., например: Аксаков К. С. Письма о современной литературе // Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 192–193.
[Закрыть] и определялось прежде всего философскими, в особенности гегельянскими мотивами. Приблизительно с середины 1840-х годов славянофильский кружок, приняв ряд новых молодых членов, предстает как значимое общественное и интеллектуальное движение и начинает активную миссионерскую деятельность, создавая интеллектуальные и культурные условия для религиозного обращения своих образованных современников.
Эта миссионерская работа осуществлялась в самых разных формах, причем преимущественно не письменных, а устных. Центр тяжести хомяковской (и вообще славянофильской) проповеди лежал именно в устной речи, в салонном разговоре, дружеской беседе, личной полемике с идейным противником. Хомяков неоднократно подчеркивал, что «изустное слово плодотворнее письменного»[928]928
Цит. по изд.: Хомяков А. С. Избр. соч. С. 39.
[Закрыть]. Объектом этой устной проповеди была преимущественно образованная публика, прежде всего молодежь и женщины, игравшие в русском обществе того времени весьма значительную роль. Им адресовались и художественные произведения как самих славянофилов, так и близких к ним в идейном и эстетическом отношении литераторов (от Н. В. Гоголя, С. Т. Аксакова, А. К. Толстого до г-жи Кохановской). Здесь следует вспомнить, что свою творческую деятельность Хомяков начинал именно как поэт и драматург.
Адресатом большинства письменных форм творчества – богословского трактата, философской статьи, исторического или филологического исследования – было прежде всего научное сообщество (как светское, так и церковное). Целью славянофилов было изменить господствующие в области знания правила таким образом, чтобы сообразное ей выражение церковной истины могло легитимно претендовать на общезначимость и убедительность.
В России середины XIX века научное сообщество и образованная публика не были дифференцированы достаточно четко, вследствие чего отсутствовала достаточно четкая классификация в системе жанров и строгое разделение науки и публицистики.
Яркое описание устной миссионерской деятельности Хомякова дает в «Былом и думах» Герцен – безусловный его идейный противник, оставивший много драгоценных свидетельств как умный и проницательный очевидец. Хотя сознание Герцена Хомяков воспринимает как больное, «свихнутое», для исцеления которого «надобна вера». Таким же он видит и сознание нарождавшейся русской интеллигенции[929]929
В небольшом диалоге «Разговор в подмосковной» Хомяков прямо говорит: «Мы больны нашей искусственной безнародностью» (Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 257). В основе безнародности лежит, без сомнения, утрата веры. Однако именно здесь можно видеть трещину в предполагаемой цельности Хомякова: забота о народности психологически часто стоит у него как будто наравне с заботой о вере, хотя теоретически он, конечно, соблюдает между ними верное отношение.
[Закрыть].
Герцен последователен в своем неверии, ясно отдавая себе отчет во всех его последствиях. Этим он удивляет Хомякова, который ничего не может поделать с его твердым «На нет и суда нет». Герцен в свою очередь пытается поставить Хомякову диагноз: неумеренная говорливость прикрывает душевную пустоту.
Терапия Хомякова направлена на другой разряд людей. Как выражался тот же Герцен, он «бил наголову людей, остановившихся между религией и наукой». «Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в “материализм”, от которого они стыдливо отрекались, или в атеизм, которого они просто боялись»[930]930
Герцен А. И. Соч. М., 1956. Т. 5. С. 157.
[Закрыть]. Хомяков проясняет своим оппонентам смутные для них самих предпосылки и следствия их идей. Тем самым он дает им возможность сделать сознательный выбор не между наукой и религией, как это представлялось Герцену, а между научным и религиозным мировоззрением. Самарин писал: «Для людей, сохранивших в себе чуткость неповрежденного, религиозного смысла, но запутавшихся в противоречиях и раздвоившихся душою, он был своего рода эмансипатором, он выводил их на простор, на свет Божий, и возвращал им цельность религиозного сознания»[931]931
Самарин Ю. Ф. Предисловие. С. 347.
[Закрыть].
Здесь отчетливо видны основные тактические приемы хомяковской миссии. Эти приемы использовались им (и другими славянофилами, например тем же Самариным) и в письменной разработке соответствующих тем. Возможно, я ошибочно воспроизвожу духовный мир Хомякова, но мне кажется, что выбор именно этих, а не других приемов спора хорошо согласуется с этой реконструкцией. Суть их очень проста: показав оппоненту неизбежность неприемлемых для него (как в интеллектуальном, так и в экзистенциальном планах) следствий его собственной позиции, предложить ему другую, более продуктивную позицию – позицию Церкви.
Чтобы продемонстрировать продуктивность этой позиции, славянофилы должны были разрушить «непроницаемую тучу недоразумений», застилавших истинный образ Церкви и сводивших к одному – к предположению о противоположности Церкви и свободы[932]932
Там же. С. 347.
[Закрыть].
Другой стороной той же тактики была демонстрация интеллектуальной мощи, свободы и пластичности религиозного сознания. О «страшной эрудиции» Хомякова говорит и Герцен, перечисляя полемические приемы своего оппонента: «Он забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными убеждениями и верованиями, оставляя его в сомнении, есть ли у него у самого что-нибудь заветное»[933]933
Герцен А. И. Соч. Т. 5. С. 157.
[Закрыть].
В действительности это не было результатом беспринципности Хомякова. Такая подвижность стала возможной благодаря тому отношению между верой и разумом, которое он установил в собственном сознании и стремился передать людям, проходившим при его участии путь религиозного обращения.
Суть его состояла в том, что область веры определялась как область свободно избираемых убеждений, обоснованных прежде всего опытом воли. Рационально обоснованное сомнение в этой области невозможно по определению, а доказательство излишне и, скорее, свидетельствует о неверии[934]934
Очень резко об этом говорится в трактате «Церковь одна» (Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 8).
[Закрыть]. Напротив, область рассудка живет исключительно по законам логики, и здесь никаких априорных ограничений (в том числе и вероучительных) для сомнения установлено быть не может. В то же время область рассудка вторична по отношению к области веры (в широком смысле слова, как области непосредственного опыта человеческой воли). Ее конечной целью, следовательно, будет не что иное, как рациональная реконструкция мира опыта и веры.
Такой подход, с точки зрения Хомякова, не только устранял препятствия на пути обретения веры, но и решал проблему социальной адаптации людей как в гражданском, так и в церковном сообществе. Преодолевая внутреннюю раздвоенность, они входили в эти сообщества как полноправные, творчески активные члены. (Пример – участие славянофилов в крестьянской реформе.)
Этот терапевтический аспект миссии славянофилов не случаен: он в значительной мере определяет их стратегию и тактику. Исцеление невозможно без веры, но и обретение настоящей веры возможно только для здорового человека. Из этого проистекает и пресловутое «славянофильство»: разрыв с народом – в образе жизни, системе основных ценностей – часть общей болезни «образованного класса». Следовательно, преодоление этого разрыва – важный шаг на пути к вере.
Как из состояния общества, так и из особенностей православной религиозности вытекают стратегические задачи миссии: интеллектуальное преодоление рационализма и культурное – европеизации. Выполнением этих задач достигались опять-таки как внутренние, так и внешние цели: присоединение образованного общества к церковной полноте должно было обеспечить устойчивость и целостность церковного организма, его способность противостоять разрушающим внешним воздействиям и внутренним разделениям. Оно же должно было уничтожить установившееся со времен Петра I противостояние народа и публики, Земли и Государства. Еще раз подчеркну, что славянофилов заботил не только внешний, так сказать, социальный аспект этого разделения, но и внутренний, личностный.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































