Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
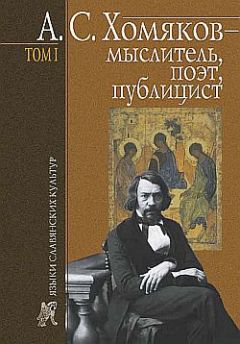
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 65 страниц)
А. В. Соболев
Отец Георгий Флоровский и старшие славянофилы (о гносеологическом родстве)
К счастью, первоначально заявленная мною тема («Хомяков и о. Г. Флоровский») фактически совпала с темой А. И. Кырлежева, и это дает мне повод несколько уклониться в сторону во избежание повторений. Я выделю лишь один аспект сближения взглядов Флоровского и старших славянофилов, а именно гносеологический, но зато поговорю об этом подробнее в надежде затронуть не только периферию, но и жизненный нерв их мировоззрения.
Как заметил Гуго фон Гофмансталь, «величие стиля определяется не тем, что говорится, но тем, что умалчивается». В творческой душе всегда гнездится цензор, который безжалостно отсекает второстепенное, чтобы расчистить дорогу главному и тем самым направить мысль в глубину. Талантливая мысль всегда содержит в себе ценностную составляющую, которая руководит процессом и нацеливает его на духовное возрастание личности.
Прошло уже почти 25 веков с тех пор, как Платон сделал одно поразительное наблюдение. Он заметил, что когда в семье благородных родителей воспитывается приемыш, который не знает о своем подлом происхождении, то этот ребенок, а затем юноша приучается прислушиваться в своей душе не только к бурным порывам, но и к более приглушенным и возвышенным мотивам. Когда же он вдруг узнает тайну своего происхождения, то душа его как бы перерождается. Он утрачивает веру в побеждающую силу любви и начинает доверять только грубым чувствам и резко очерченным мыслям. Так формируется рационалист и нигилист.
Но если Платон с горечью и сожалением констатирует деградацию в душе плебея высокого строя личности, то Аристотель, напротив, с особым тщанием отыскивает в человеческой душе и уме то, что не зависит от его благородства или неблагородства, отыскивает то, что делает его в конечном итоге бездушным автоматом. Скорее всего, именно эта установка помогла Аристотелю разработать силлогистику, то есть технику мышления, выводящую мышление из под контроля оценки.
В XII веке Абеляр приспособил это открытие Аристотеля к новым условиям и умудрился именно технику мышления сделать предметом повального увлечения среди молодежи. Так возникло «школярство» или «схоластика», то есть азартная игра внешними формами мысли. Именно это «овнешнение», «опредмечивание» мыслительной деятельности вывело ее из под контроля со стороны глубоких и возвышенных переживаний и навечно связало с сильными, но низменными страстями. (Уж не эти ли «высвобожденные» инфернальные страсти напитали энергией западную цивилизацию в ее дальнейшем триумфальном шествии по пути технического и всякого иного «прогресса»!?)
Почему такое стало возможным? Да потому, что для молодого человека важна вовсе не истина (которая еще неизвестно что такое), а четкая фиксация в глазах публики собственного превосходства. Важна не истина, а победа (в данном случае в схоластическом споре). Чтобы четко зафиксировать «результат», т. е. победу, нужны измерители (голы, очки, секунды). Только мышление, опосредованное измерением, вынуждает считаться с собой. И при этом совершенно упускается из виду, что разжигание страстей спортивной борьбы, крысиные гонки за «результатом» неизбежно приводят к измельчанию души, к выталкиванию ее на поверхность и к отрыву от истины. Утрачивается понимание того, что философское познание и «измеряемый результат» – это две вещи несовместные.
Нравится нам это или нет, но массовое общество – реальность, и оспаривать его право на жизнь бессмысленно. Вопрос в другом: а имеет ли право на жизнь еще и нечто другое?
Все мы помним, пушкинский Моцарт в порыве благодарности за редкостный дар сочувственного понимания воскликнул:
Когда бы все так чувствовали силу Гармонии!
Но, как мы опять же помним, он тут же и осекся:
Но нет: тогда б не мог и мир существовать;
Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой…
Да, «польза» – это великое слово. Кажется, что весь мир вращается вокруг пользы. И все же остается открытым вопрос: а не «полезны» ли для выживания человечества также и «пренебрегающие презренной пользой»? Может быть, без них, то есть без занесенных в «Красную книгу» платонов, моцартов и пушкиных мир вообще сорвется со своей оси и полетит в тартарары?
Двадцатый век убедительно доказал, что подавляющее большинство сфер человеческой деятельности может, а значит, и должно быть организовано по типу массового производства. Это – экономика, техника, наука, поп-искусство. И все же сохраняется несокрушимая вера в то, что в мире должны существовать также и оазисы духовной тишины, такие как религия или высокое искусство. Таким же оазисом должна стать, по мысли старших славянофилов, и философия, но философия не школярски-наукообразная, а духовно-творческая. Ни минуты не сомневаясь в огромной значимости и полезности обезличенного «технического» знания, славянофилы со всей остротой поставили вопрос о не меньшей значимости знания иного рода, а именно знания личностного, процесс добывания которого связан не с обездушиванием и обезличиванием человека, но с его духовным возрастанием.
«Мышление, отделенное от сердечного стремления, есть, – пишет И. В. Киреевский, – <…> развлечение для души, как и бессознательная веселость. Чем глубже такое мышление, чем оно важнее, по-видимому, тем, в сущности, делает оно человека легкомысленнее. Потому серьезное и сильное занятие науками принадлежит также к числу средств развлечения, средств для того, чтобы рассеяться, чтобы отделаться от самого себя»[582]582
Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 334.
[Закрыть].
Научное мышление не только подавляет «сердечные стремления», не только помогает человеку «отделаться от самого себя», оно в силу своей аналитичности культивирует в человеке склонность даже внешнюю реальность воспринимать в аспекте разложения и распада. Оно исходит из ложного убеждения, будто от анализа можно вернуться к синтезу легко и без потерь. Но если из яйца яичницу действительно сделать просто, то из яичницы «синтезировать» вновь яйцо невозможно.
Из школьного курса биологии мы знаем, что все живое вовлечено одновременно в два разнонаправленных процесса. С одной стороны, в процесс ассимиляции, усвоения, синтеза, с другой – в процесс диссимиляции, разложения, растления. Оба процесса равно необходимы для выживания человека, но можно ли к ним относиться как к равнозначным?
Пафос славянофильской гносеологии – это острое переживание того факта, что познание не является духовно нейтральным процессом. Познание – это процесс, который совершается в самом бытии. И каждый должен совершить фундаментальный выбор – на стороне каких сил он желает участвовать в этом процессе?
Если человек принял решение противостоять силам растления и распада, то он обязан прежде всего в самом себе культивировать способность «собирающего» мышления, культивировать способность восприятия реальности в ее «высшем» проявлении, т. е. способность восприятия «преображенной», «благодатной» реальности. А это и значит развивать в себе зачатки «верующего разума».
По словам апостола Павла, «вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» (Евр. 11, 1). В переводе на философский жаргон это означает, что вера есть высоко развитая способность ценностной ориентации, а также способность художественными средствами выражать внутренний мир, делать его доступным чувственному восприятию.
Но, чтобы научиться превращать «невидимое» в «видимое», нужно постоянно упражняться в способности сами душу и тело превращать в органы мышления. Западноевропейскому идеалу «отвлеченного» разума славянофилы противопоставили идеал «волящего» разума. Процесс познания должен быть так организован, чтобы не подавлять, а, напротив, укреплять в человеке волевое начало. Воля, по убеждению Киреевского, должна «расти вместе с мыслью». Но в таком случае мысль должна не выталкиваться целиком на экран сознания, а пронизывать собой всю личность человека. «Покуда мысль ясна для разума или доступна слову, она, – утверждает Киреевский, – еще бессильна на душу и волю. Когда же она разовьется до невыразимости, тогда только пришла она в зрелость»[583]583
Киреевский И. В. Указ. соч. С. 362.
[Закрыть].
Киреевский вовсе не проповедует «невегласие». Мысль, конечно же, выразима. Но она не может быть «смоделирована», «симулирована», т. е. она не может быть «сконструирована» из неличностных деталей, из неличностного материала. Живая и трепетная онтологическая мысль может быть предъявлена только как горение, высвечивающее личность изнутри, высвечивающее глубину личности. Когда М. Хайдеггер говорит об истине как о «несокрытости», он говорит о том же самом. Онтологическая мысль не доказывается, она лишь свидетельствует о себе самой своим присутствием здесь и теперь. Подлинное творческое горение нельзя заключить в форму и затем по произволу перемещать в пространстве и во времени. Киреевский настаивает, что для поддержания огня необходимо все время обновлять форму выражения мысли, как это делается в любом творчестве. «Невыразимое, – пишет он, – проглядывая сквозь выражение, дает силу поэзии и музыке и проч. Оттого есть только одна минута, когда произведение искусства действует вполне. Во второй раз после этой минуты оно действует слабее, покуда наконец совсем перестает действовать, так что песня в десятый раз сряду уже несносна, картина над письменным столом почти как песочница, оттого что сила не в выражении»[584]584
Там же. С. 363.
[Закрыть].
Но мысль погашают не только повторения, но и контексты, которые, навязывая однозначность прочтения, тем самым экранируют тот огонь, который и является подлинным содержанием мысли. Об этом хорошо сказал С. С. Аверинцев, противопоставивший многозначный символ однозначной аллегории. «Символ и аллегория подобны образу и сюжету: первый цветет всем набором словарных значений, вторая контекстно однозначна, как оглобля, вырубленная из этого цветущего ствола»[585]585
Цит. по: Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 338.
[Закрыть].
Философ не должен выделывать оглобли из цветущих деревьев даже под угрозой быть понятым лишь немногими. «Живые истины, – пишет Киреевский, – не те, которые составляют мертвый капитал в уме человека, которые лежат на поверхности его ума и могут приобретаться внешним учением, но те, которые зажигают душу, которые могут гореть и погаснуть, которые дают жизнь жизни, которые сохраняются в тайне сердечной и по природе своей не могут быть явными и общими для всех»[586]586
Киреевский В. И. Избранные статьи. М., 1984. С. 280.
[Закрыть].
Если человек сознательно ориентирует себя на приобретение лишь «полезных», инструментальных знаний, приобретаемых «внешним учением» и использующих в качестве средств выражения «понятия-оглобли», то философский разговор с ним становится невозможным.
Только культивирование «волящего разума», ориентирующегося на духовное возрастание личности, делает, по мысли славянофилов, человека философски вменяемым, способным высвечивать онтологическую глубину. Для пояснения приведу такой образ. Большекрылые птицы набирают высоту, используя восходящие воздушные потоки и постоянно сменяя ослабевшие на более мощные. Так же и философ должен чутко улавливать, когда для нового подъема, для расширения кругозора потребуется смена предметов рассмотрения. Задержаться сверх меры на одном и том же – значит потерять высоту. И чем выше птицы поднимаются, тем глубже их взор проникает в морскую глубину. Философ же, духовно возрастая, не только сам обретает зрячесть в отношении опытного знания, но и наделяет ею собеседников, подобно камертону настраивая их души.
Задача философа – восстановить связь «отвлеченного» знания с тем опытным знанием, от которого оно было насильственно отвлечено. Опытное знание, т. е. недоступное внешнему взору духовное богатство личности составляет реальный «фон» знания, и «отвлеченное» знание может стать осмысленным и может получить импульсы к развитию только «на фоне» опытного знания и во взаимодействии или «в диалоге» с ним. Ни о какой «автономии» отвлеченного знания, по мысли славянофилов, не может быть и речи.
Но опытное знание не загоняется в подсознание и не искажается только при определенных условиях. Эти условия славянофилами обозначаются как «закон любви». «Из всемирных законов волящего разума или разумеющей воли (ибо таково определение самого духа) первым, высшим, совершеннейшим, – утверждает А. С. Хомяков, – является неискаженной душе закон любви. Следовательно, согласие с ним по преимуществу может укрепить и расширить наше мысленное зрение, и ему должны мы покорять и по его строю настраивать упорное неустройство наших умственных сил. Только при совершении этого подвига можем мы надеяться на полнейшее развитие разума[587]587
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. 4-е изд. М., 1911. С. 280.
[Закрыть]. Что это значит? А это значит, что только в состоянии любви сердечный импульс способен беспрепятственно проходить через целый ряд душ, и мы научаемся чувствовать и мыслить сердцами и умами наших близких. Мы как бы выходим за пределы нашего ограниченного сознания и обретаем способность реагировать на то, что не осознаем «ясно и отчетливо». Это и подразумевается под словом «соборность».
Истина обнаруживает себя сама, но она открывается лишь в меру благородства и бескорыстия лиц, связанных сердечными отношениями. «Любовь, – пишет Хомяков, – требует, находит, творит отзвуки и общение и сама в отзвуках и общении растет, крепнет и совершенствуется. Итак, общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без нее невозможно. Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью. Эта черта резко отделяет учение православное от всех остальных»[588]588
Там же.
[Закрыть].
Но предельно возможная глубина высвечивается людям, связанным между собой не просто любовью, но любовью благодатной. Такое единство, по мысли славянофилов, достижимо лишь внутри Церкви. «Вне Церкви живущему, – настаивает Хомяков, – непостижимо ни Писание, ни Предание, ни дело. Внутри же Церкви пребывающему и приобщенному к духу Церкви единство их явно по живущей в ней благодати»[589]589
Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2: Работы по богословию. М., 1994. С. 8.
[Закрыть].
Если рискнуть и ради облегчения вхождения в строй мысли славянофилов употребить светский аналог слова «благодатный», то можно сказать, что лишь «вдохновенному» познанию приоткрывается глубина реальности. Ибо только вдохновение пробуждает дар композиции, который позволяет познающему так организовать элементы «внешнего» знания, чтобы они не экранировали глубину, не превращали бы «слова-символы» в «понятия-оглобли» и не подавляли бы в читателе предощущения его духовного роста.
* * *
Остается лишь указать на глубокое родство славянофильской гносеологии с учением о. Г. Флоровского о философском и богословском познании. Уже в ранней своей статье «Вечное и преходящее в учении русских славянофилов» (1921) он сблизил славянофилов и Ницше как выразителей волюнтаризма и протеста против современной обезличивающей культуры подражательства и тиражирования. Но наиболее важные свои наблюдения и соображения он высказал в посвященной Хомякову главе своей прославленной работы «Пути русского богословия».
«Хомяков, – подчеркивает Флоровский, – исходит из внутреннего опыта Церкви… Он не столько конструирует или объясняет, сколько именно описывает. В этом и сила его. Как очевидец, он описывает реальность Церкви, как она открывается изнутри. Через опыт жизни в ней. В этом отношении богословие Хомякова имеет достоинства и характер свидетельства»[590]590
Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 274.
[Закрыть].
«Хомяков, – пишет он далее, – сознательно не доказывает и не определяет, – он свидетельствует и описывает. Вместо логических определений он стремится начертать образ Церкви. Он старается изобразить ее во всей ее духовной жизненности и самоочевидности»[591]591
Там же. С. 275.
[Закрыть].
Разумеется, дать «логическое определение» Церкви – задача бессмысленная и невыполнимая. Очертить пределы беспредельного еще никому не удавалось. Но начертать «образ Церкви» – задача тоже не из легких. Ученые пытаются конструировать определения, подбирая «наиболее существенные» черты определяемого. Художники творят образы из «случайных», но наиболее выразительных деталей. Вспомним, что герою чеховской «Чайки» для создания образа лунной ночи оказалось достаточно тени от мельничного колеса и горлышка от бутылки на насыпи запруды. Важно, чтобы разряд «вольтовой дуги» вдруг объединил в сознании детали и целое и задал жизни духа тягу вверх. Быть может, Владимир Солоухин и не самый авторитетный художник слова, но мне кажется, он очень толково и компактно описал процесс творчества.
«Собственно творческим актом в любом виде искусства является рождение замысла. Замысел рождается мгновенно, хотя этому предшествует накопление жизненного опыта на протяжении лет и десятилетий. И когда художником владеет замысел, он не думает, а как бы пооригинальнее форму изобрести. Это уже у художника либо есть, либо нет. И ежели он видит мир по-своему, то каких-то дополнительных задач, чисто художественных, ему решать не надо. Он будет просто наиболее добросовестно, наиболее выразительно, с его точки зрения, воплощать тот замысел, который у него народился – в уме, в душе, так сказать, внутри его сознания»[592]592
Солоухин В. Радуешься, когда возникает живое явление // Литературная газета. 2004. 9–15 июня. № 23 (5975).
[Закрыть].
«Вольтова дуга» благодати способна высветить для нас Божий замысел церковного единства. И, как мы помним, согласно Евангелию, рождение Церкви в день Пятидесятницы ознаменовалось языками благодатного огня, вспыхнувших на головах апостолов.
Даже сегодня поражает смелость, с какой Хомяков в своей прославленной работе «Церковь одна» заявляет, что сами по себе богословские формулировки суть ничто. Их нельзя фетишизировать. Нельзя рассчитывать, что мертвые формулы автоматически вызовут благодатное озарение. Как нельзя надеяться, что бутылочное стекло непременно вызовет образ лунной ночи. «Не лица, – напоминает нам Хомяков, – и не множество лиц в Церкви хранят Преданье и пишут, но Дух Божий, живущий в совокупности церковной. Потому ни в Писанье искать основы Преданью, ни в Преданье доказательств Писанью, ни в деле оправдания для Писанья и Преданья нельзя и не должно. Вне Церкви живущему непостижимо ни Писанье, ни Преданье, ни дело. Внутри же Церкви пребывающему и приобщенному к духу Церкви единство их явно по живущей в ней благодати»[593]593
Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 8.
[Закрыть].
Думаю, что именно подобные мысли Хомякова вдохновили отца Георгия Флоровского на их дальнейшую радикализацию. Флоровский настаивает, что догматы неизменны не потому, что они внеисторичны, что они сохраняют свою действенность в любое время и в любом месте. Они неизменны именно потому, что они «истинны», т. е. обладают священным свойством раскрывать внутренний смысл только в одном-единственном месте и времени. Только благодаря нисхождению благодати на участников церковного собора в момент формулирования того или иного догмата его формулировка навечно сращивается с этим событием. И только в контексте этого события догматическое утверждение может быть осмысленно.
«Попытка использовать отдельные утверждения святых отцов, вырвав их из мира, где они были впервые выражены, ведет в тупик, – утверждает Флоровский, – так же как и манипулирование цитатами, надерганными из Писания. Цитировать святых отцов, то есть приводить отдельные слова и фразы, вырывая их из контекста, в котором они только и имеют полное значение, – опасная привычка»[594]594
Флоровский Георгий, прот. Догмат и история. М., 1938. С. 381.
[Закрыть].
«Христианская молитва, – пишет Флоровский, – существенно догматична. И прежде всего, она есть воспоминание, anamnesis, и возможна она только в перспективе “священной истории”. Христианский “анамнезис” <…> есть, в известном смысле, возврат к прошлому. Ибо “прошлое” во Христе стало постоянным “настоящим”, и это единство веков с такой силой открывается в Божественной Евхаристии… Св. Иоанн Златоуст с парадоксальной настойчивостью разъяснял <…> что каждая Евхаристия есть та же Тайная Вечеря, и на ней действует тот же Христос»[595]595
Флоровский Георгий, прот. Вера и культура. СПб., 2002. С. 724–725.
[Закрыть].
На мой взгляд, этот радикальный историзм Флоровского может быть адекватно понят только в контексте славянофильской гносеологической традиции, и это делает славянофильскую традицию обжигающе современной. Накануне русской катастрофы Владимир Эрн пророчествовал, что время славянофильствует. К сожалению, тогда время круто переломилось, и мы можем только надеяться, что время залижет свои раны и продолжит свой ход в направлении, указанном старшими славянофилами и о. Георгием Флоровским.
В. Н. Захаров
Вопрос об А. С. Хомякове в журнале братьев Ф. М. и М. М. Достоевских «Время»
«Вопрос о Хомякове» – один из самых неясных в редакционной истории журнала «Время», хотя именно по этому поводу сохранилось больше всего письменных источников. Он отразился в переписке Ап. Григорьева и Н. Страхова, которую последний опубликовал вскоре после смерти критика в сентябрьском номере журнала «Эпоха» за 1864 год. Публикация сопровождалась воспоминаниями и комментариями Страхова, а также развернутыми полемическими возражениями Достоевского. Позже этот эпизод из редакционной жизни журнала и полемика были снова изложены в обстоятельных воспоминаниях Н. Страхова. Его воспоминания, напечатанные в первом посмертном полном собрании сочинений Достоевского (1883), во многом определили трактовку взаимоотношений братьев Достоевских и Ап. Григорьева, их отношения к славянофилам.
Речь идет о конфликте Аполлона Григорьева с братьями Достоевскими по поводу Хомякова.
18 июня 1861 года Ап. Григорьев писал Страхову из Оренбурга:
Лучше я буду киргизов обучать русской грамоте, – чем обязательно писать в такой литературе, в которой нельзя подать смело руку хоть бы даже Аскоченскому в том, в чем он прав, и смело же спорить хоть даже с Герценом. Цинизм мысли, право, дошел уже до крайних пределов. Слова человека очень честного и хорошего, каков М. Достоевский: «какие же глубокие мыслители Киреевский, Хомяков, о. Феодор?» – для человека действительно мыслящего – термометр довольно ужасающий[596]596
Страхов Н. Н. Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве // Эпоха. 1864. № 9. С. 8.
[Закрыть].
Этот эпизод из переписки обстоятельно прокомментирован и Н. Страховым, и Ф. Достоевским.
В своих воспоминаниях 1883 года Страхов несколько раз высказался по поводу этой фразы.
В одном месте он придал вопросу идеологическое значение:
Достоевские были прямыми питомцами петербургской литературы; это всегда нужно помнить при оценке их литературных приемов и суждений. Михайло Михайлович был, разумеется, более подчинен и был холоден или даже предубежден против славянофилов, что и отразилось в его вопросе: «Какие же глубокие мыслители Хомяков и Киреевский?», так задевшем за живое Ап. Григорьева. В своем первом письме из Оренбурга Григорьев выставляет этот вопрос чуть не прямою причиною, почему он, после своей четвертой статьи, задумал покинуть журнал и уехать[597]597
Биография, письма и заметки из записной книжки // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. 1883. Т. 1. С. 204.
[Закрыть].
В другом месте, предваряющем примечания Ф. Достоевского к вопросу брата, Страхов склонен объяснить этот эпизод редакционной тактикой «Времени» в споре западников и славянофилов:
Статьи Григорьева усердно читались нами, сотрудниками “Времени”, вероятно читались и серьезными литераторами других кружков: но для публики они, очевидно, не годились, так как для своего понимания требовали и умственного напряжения и знакомства с литературными преданиями, не находящимися в обиходе. Для журнала представляли некоторое неудобство и его резкие ссылки на славянофильство[598]598
Там же. С. 207.
[Закрыть].
И наконец:
Наиболее взвешенную и непротиворечивую оценку этого отъезда Григорьева Страхов дал в девятом номере «Эпохи»:
Он уехал в Оренбург, конечно, по личным невзгодам и разочарованиям, о которых сам говорит. Но для него этот отъезд не простое удаление в глушь; для него он главным образом есть удаление от литературы, напоминание о том, что он ненужный человек. И вот от личных невзгод он переносит свое горе на общее состояние литературы. Без сомнения, различные состояния его духа, его бодрость и уныние, часто имели чисто личные источники; но он всегда обращал их на предметы общие и глубокие. Он не хотел и не мог унывать только за себя и радоваться только за себя. Каждое душевное потрясение вызывало у него наружу то, чем была полна его душа, тревожило его постоянные раны. Таким образом, своей радости и своей печали он всегда придавал глубокий смысл; он отталкивал от себя действительность для того, чтобы свободнее витать в мире идей, ему знакомом и родном. За то и жил он не в ладу с действительностию, теряя все больше и больше терпенье и уменье, которое нужно, чтобы справляться с нею.
В печатании своих статей во Времени он не встречал никакого затруднения. В майской книжке 1861 года читатели могут найти (на стр. 14) те рассуждения об Хомякове, Киреевском и о. Феодоре, о которых говорит Григорьев. Эпитет глубокие там действительно исключен, но и только. Конечно, и это могло быть неприятно Григорьеву; но для редактора и для журнала могли быть еще неприятнее некоторые приемы Григорьева. Вопрос М. Достоевского: – какие же глубокие мыслители Хомяков и пр.? нельзя поставить в упрек лично М. Достоевскому. Так спросили б в то время тысячи и десятки тысяч образованных наших читателей. Трудно надеяться, чтобы и теперь много убыло народу в этих тысячах и десятках тысяч. Мы по-прежнему охотно читаем всякую французскую и немецкую дрянь; читать же какого-нибудь Хомякова нам и в голову не приходит. Итак, голословная ссылка на такие авторитеты была делом совершенно бесполезным. Она ничего не подкрепляла и не уясняла для огромного большинства читателей. Очевидно, нужно было поступать наоборот, нужно было укреплять и уяснять в умах читателей самые эти авторитеты, а не опираться на них, как на готовую силу. Но подобная служебная работа была не в натуре Григорьева. Он писал не то, что было нужно по известным соображениям, а то, что создавалось в его голове как бы помимо его воли. Начиная свою статью, он никогда не знал ее конца; так он сам мне говорил незадолго до смерти; недаром он называл себя веянием Spiritus fat ubi vult[600]600
Страхов Н. Н. Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве. С. 8.
[Закрыть].
В подтверждение своих слов Страхов сослался на статью Ап. Григорьева «Оппозиция застоя», в которой вопреки жалобам обиженного критика прозвучал панегирик Хомякову, Киреевскому и о. Феодору:
Последствия доказали, что можно, но только последствия доказали это, и еще доказывают и, может быть, долго еще будут доказывать, что между обскурантизмом и религиею света, между застоем и учением любви – нет ничего общего… Для всех этих последствий нужны были и простая книга отца Парфения, поразившая своей простотою мудрых и разумных и жадно прочтенная толпою, и глубокое мышление И. Киреевского, и блестящие, оригинально-смелые и широкие взгляды Хомякова, и полное веры, любви и жизни слово архимандрита Феодора, и, позволю себе сказать, чисто земные литературные явления, – явления натурализма, на который всего более нападали слепые поборники застоя[601]601
Григорьев Ап. Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия // Время. 1861. № 5. С. 4–5.
[Закрыть].
Несмотря на ставшее предметом пересудов замечание редактора, в статье Ап. Григорьева дана восторженная оценка деятельности славянофилов: «глубокое мышление И. Киреевского», «блестящие, оригинально-смелые и широкие взгляды Хомякова», «полное веры, любви и жизни слово архимандрита Феодора».
Очевидно, в статье редактор снял эпитет «глубокий» («глубокие мыслители»), и на этом правка закончилась. Вот это «злополучное» место:
Все это философские принципы, в которых много истины, в которых все, пожалуй, – истина, кроме одной, по видимому, совершенно второстепенной, невыдающейся на первый план мысли, мысли о «потерянных, напрасных и может быть – погибельных трудах». Все остальное не новость, все остальное встречаем мы в мыслителях как Хомяков, Киреевский, отец Феодор (я напоминаю только о ближайших к нам) – и видим, что оно не ведет ни к отрицанию свободы общественной, ни к отрицанию красоты в искусстве, ни к отрицанию испытующего духа в философии, а напротив, придает только всем этим возвышенным стремлениям силу, прочность, центр. Но эти высокие основы – может быть, по сущности своей представляют собою такую высокую и острую крутизну, на которой в желаемом равновесии могли удерживаться только глубочайшие христианские мудрецы первых семи веков и весьма немногие из современных, наследовавшие от них не букву, которая мертвит, а дух, который животворит. Немногие дошли до той высоты воззрения, потребной для простой и великой в простоте своей мысли о. Феодора, что для Христа человеческий разум вовсе не так ничтожен, как для нескольких поборников застоя и насильственного единства, для нескольких духовных централизаторов, которым всякие пути, уклоняющиеся от буквы, представляются «усилиями потерянными, трудами напрасными, а может быть и погибельными». Централизаторы, приверженцы буквы, странная ирония! – становят свой собственный разум, т. е. свое личное, скованное понимание буквы мерилом путей великой к таинственно-неусладимой силы и, – не зная ни ее последующих проявлений, ни ее конечных целей, произносят с высоты присвоенного себе авторитета приговор всяким путям, кроме тех, которые условлены их буквою… Вред, происходящий от такого произвольного, хотя вместе и рабски-буквального указания путей, ужасен и в области мышления и в области искусства и в области жизни. Много ли, повторяю, найдется Хомяковых, Киреевских, отцов Феодоров?[602]602
Там же. С. 13–14.
[Закрыть]
Попробуем распутать то, что запутал в своих противоречивых свидетельствах Н. Страхов.
Первым, кто попытался возразить страховской трактовке отношений братьев Достоевских и Ап. Григорьева к славянофилам, был сам Достоевский: «Н. Н. Страхов хоть и представляет далее в статье своей комментарий на слова моего брата, приведенные Аполлоном Григорьевым о Киреевском, Хомякове и о. Феодоре, но так как я сам был тут, при этом разговоре, то считаю, как личный свидетель, не лишним разъяснить эти слова в их настоящем смысле».[603]603
Достоевский Ф. М. Примечание // Эпоха. 1864. № 9. С. 52.
[Закрыть]
Достоевский был прав, когда обращал внимание Страхова на то, что «Аполлон Григорьев весьма часто упоминал во “Времени” о Хомякове и Киреевском, и упоминал всегда так, как хотел, потому что сама редакция “Времени” вполне ему сочувствовала». Действительно, о Хомякове Григорьев писал в семи статьях (из десяти) «Народность и литература» (№ 2), «Западничество в русской литературе. Причина происхождения его и силы. 1836–1851» (№ 3), «Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики» (№ 3), «О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности (из заметок ненужного человека)» (№ 3), «Тарас Шевченко» (№ 4), «Взгляд на книги и журнальные статьи, касающиеся истории русского народного быта» (№ 4), «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия» (№ 5).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































