Текст книги "Mobilis in mobili. Личность в эпоху перемен"
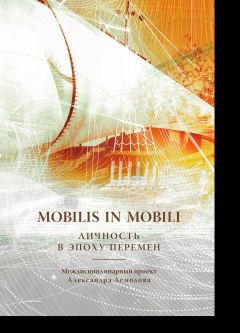
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 54 страниц)
Ключевая тема «поздних» размышлений Г. М. Андреевой – проблема соотношения образа социального мира и условно «реального» мира. Именно через образ социального мира «субъективность входит в реальность» (если воспользоваться знаменитой формулой В. П. Зинченко и М. К. Мамардашвили): в языковом общении и практической деятельности индивиды постепенно создают целостный образ общества и культуры, который начинает функционировать на равных с «объективными» историческими факторами. В ситуации радикальных социальных изменений и проблем происходит расхождение между реальным и воображаемым (сконструированным) мирами, крушение образа социальной реальности оборачивается распадом самой этой реальности [Андреева 2013].
Г. М. Андреева неоднократно проводит параллель между двумя понятиями: образа мира (А. Н. Леонтьев) и социальных представлений (С. Московиси). Одноименные теории, вне сомнения, исходят из различных эпистемологических допущений (хотя задумывались они в чем-то сходных идейных контекстах – короткой «Оттепели» в СССР и студенческой революции во Франции 1960-х гг.) и при этом артикулируют общую тенденцию, «которая характеризует развитие психологического исследования познавательных процессов и проявляет себя в необходимости включать в анализ познания социальные факторы», – так выглядит резюме сравнительного анализа двух концепций [Андреева 2009: 158]. Пункт сходства – аффективно-смысловая «пристрастность отражения» общества в образе мира / социальных представлениях, изменяющих повседневность в воображении людей; отчасти воображаемая, «отраженная» действительность образует контекст их взаимодействий.
Социальное представление – это воображаемый объект, который конструируется интерсубъективно (в диалоге Я – Другой). По мнению ученицы Московиси И. Марковой, с помощью социальных представлений человек не только воспроизводит реальность, но и изменяет ее через мышление и деятельность [Маркова 2011]. Социальное представление не является восприятием независимого объекта, это – сам объект, который не существует вне взаимодействующих субъектов (акторов), поэтому его нельзя оценивать как истинный или ложный; объект – есть результат «видения» социального окружения как привычного умственного ландшафта, онтологически реального для группы [Емельянова 2016].
Таким образом, социальные представления выступают полноправными объектами-«участниками» современной жизни, маркирующими ее подвижность и текучесть. Однако важно учитывать, что они – не абстрактные схемы, которые применяются «по желанию» отдельных индивидов или групп, а автономный и конституирующий фактор социальной реальности, что подчеркивается в Женевской школе У. Дуаза. Знание, полученное в ходе коммуникаций между людьми, применяется к конкретным событиям, онтологизируется и воспринимается как их неотъемлемая составляющая. Теория социальных представлений проблематизирует установление различия реального / воображаемого в познании – и этот тезис перебрасывает мост к философской традиции изучения «социального воображения» или «воображаемого» [Arruda 2015] – мы используем эти понятия синонимично.
Концепция социологии воображения была введена Ч. Миллсом. Социологическое воображение – способ осмысления повседневности, который «дает возможность постичь историю и обстоятельства отдельной человеческой жизни, а также понять их взаимосвязь внутри общества» [Миллс 2001: 14]. Э. Гидденс, рассматривая разные интерпретации кофепития (как символического ритуала, инструмента контроля наркотических девиаций или торгового обмена, охватившего весь мир после колониальной экспансии европейцев), определяет суть социологического воображения как метода отстранения от автоматизма повседневной жизни и ее преобразования в будущем [Гидденс 2005].
В советской психологии предлагалось понятие не социологического, а социального воображения, определяемое как механизм адаптации человека к социальным изменениям, – «способность понимать свой опыт и определять свою судьбу, мысленно помещая себя в реальные рамки данного периода развития общества» (Бобнева (1978), цит. по: [Дружинин (ред.) 2009: 123]). Воображение – «отлет от прошлого опыта» [Рубинштейн 2005: 296] – это мысленное преобразование действительности в образной форме. Благодаря способности воображения человек строит новые способы репрезентации реальности, необходимые для планирования деятельности в ситуации неопределенности, и в этом смысле воображение выступает предварительным условием любого познания [Петухов 2013].
Социальное воображаемое – это неструктурированное понимание происходящего в обществе и культуре, имплицитное схватывание социального пространства «обычным и простым» человеком, делающее возможными совместные практики и чувство морального порядка и легитимности в отношениях [Тейлор 2010]. В социальном воображаемом, по-видимому, трансформируются и раздвигаются координаты исторического пространства и времени [Конева 2016]. Перечисляются конституирующие его черты: разнопорядковость, свобода, целостность, форма, игра, интенсивность и бесконечность [Дубин 2017].
Социальное воображаемое открывает новый путь для поиска собственного места в изменчивых пространствах общества, культуры и науки, т. е. субъективации личности как обретения внутренней формы переживания и принятия неопределенности исторического времени, служащей в конечном счете ответом на экзистенциальный вопрос Л. Я. Гинзбург о том, «как человек определенного исторического склада подсчитывает свое достояние перед лицом небытия»? [Гинзбург 2002: 267]. Однако социальное воображение следует рассматривать не только как психологическую способность локализовать себя в истории, но и как непрерывный процесс порождения образов и символов, раздвигающих границы опыта человека фактически до бесконечности (в мифологии, искусстве, сновидениях как символических формах социального познания). «Схватывание реального в качестве мира подразумевает скрытую возможность превзойти его в направлении к воображаемому», – отмечает Ж.-П. Сартр в феноменологическом анализе воображения [Сартр 2001: 308].
Наиболее последовательно трактовка социального воображаемого как культурного производства форм социального познания артикулирована во французской философии XX столетия (а точнее – 1950–70-х гг.). Остановимся на характерных примерах эксплуатации этой категории – психоанализе Ж. Лакана, исторической школе «Анналов» и философии общества К. Касториадиса, все они осмысляются и в современной психологии (в отличие от стоящей особняком немецкой традиции, представленной работами Д. Кампера).
В психоанализе Ж. Лакана воображаемое, противопоставленное символическому, но при этом тесно переплетенное с ним, – это набросок, иллюзия собственного Я, которое впервые узнает себя и отождествляет с образом себе подобного на доэдипальной «стадии зеркала»; зеркальным отражением воображаемого становится кинематограф [Метц 2013]. Если символическое относится к психическим феноменам, структурированным как язык (семиотически означенным), то воображаемое вбирает образы и фантазмы, которые пока не получили наименования в системе социальных категорий, а «реальное же по существу остается за рамками исследования» [Маньковская 2009: 65]. В критической психологии идеи Лакана объединяются с идеями Ж. Деррида и М. Фуко для анализа дискурсивного конструирования субъективности в разных идеологических обрамлениях [Паркер 2009].
Несколько иная трактовка социального воображаемого обнаруживается в работах К. Касториадиса. Для него воображаемое – не сам образ, а непрерывное, необусловленное ничем общественно-историческое и психическое творчество, дающее лишь основание для образа, который и представляет собой то, что называем реальностью [Касториадис 2003]. Он вводит понятие радикального воображения – стремления не просто найти адекватные символические формы выражения воображаемого, а представить то, чего не существует и не имеет соответствия в окружающем мире. Лучше говорить не об образах, порождаемых внешними и внутренними состояниями индивида, а о фантазмах, которые не соотносятся ни с какими означаемыми, для них нет общепринятых способов культурной символизации [Орлова 2016]. Сходное расшатывание отношений означающего и означаемого совершает О. Мандельштам в рассуждениях о природе поэтического языка [Золян, Лотман 2012].
Отчасти под влиянием интеллектуальной моды на психоанализ получает одобрение предложение историков «школы Анналов» Р. Мандру и Ж. Дюби изучать ментальность, «ментальное оснащение» эпохи – совокупность полубессознательных, не имеющих ясных очертаний, изменчивых во времени представлений человека о мире и своем месте в этом мире, которые определяют поступки и поведение людей [Дюби 1991]. Следует отметить, что ментальность нередко трактовалась историками этой классической школы как отчасти замкнутое и независимое пространство воображения, «затемняющее» фон социального мира [Трубникова 2016]. В отечественной социальной психологии понятие ментальности используется для характеристики системы социальных представлений и коллективных переживаний, через призму которых происходит восприятие основных сторон социальной реальности большими устойчивыми группами [Емельянова, Дробышева 2017].
Самостоятельный сюжет исследования социального воображаемого – уже покидая пределы Франции – это анализ наций как «воображаемых сообществ», члены которых не могут знать большинства своих собратьев, «в то время как в умах каждого из них живет образ их общности» [Андерсон 2016: 47]. Иными словами, образ группы воображается или конструируется индивидами, разделяющими одинаковые вещи (символы), связывает их друг с другом, даже если они разделены во времени и пространстве [Як 2017]. Идея воображаемого сообщества реализуется в исследованиях категоризаций групп как реально действующих на сцене социальной жизни «коллективных акторов» [Обыденное и научное знание об обществе… 2015]. В настоящее время национализм исследуется с точки зрения ситуационной обусловленности его дискурсивного формирования в повседневной жизни и медиа [Миллер 2016] «Воображаемое» в теории наций – своего рода психологическое установление координат межгрупповых отношений, подтверждающее тесную взаимосвязь психологических и социальных причин конфликтов.
Таким образом, многообразие концептуализаций «социального воображаемого» в философии, социальной теории и психологии позволяет говорить о том, что это понятие обозначает некий докатегориальный механизм познания повседневности, а именно того ее фантазийного пласта, который как бы сопротивляется символическому означиванию, для которого пока не нашлось адекватного языка выражения в обществе и культуре (ср. также с мрачной идеей «бесформенного» Ж. Батая как работы по разрушению классификаций и «деклассирования» языка, метафорически выражаясь, «низвержения его на землю»; этот принцип реализован, к примеру, в скульптурах и живописи А. Джакометти). Социальное воображаемое предоставляет нам возможность бросить взгляд на «те загадочные области субъективности, которые освобождены от любых форм структурной определенности и находятся в состоянии абсолютного становления» [Бусыгина 2017: 87].
Способность воображения становится стратегией понимания ситуации социальной нестабильности и неопределенности, когда происходит символический распад общества и культуры, традиционных моделей мышления и поведения, ими когда-то поддерживаемых. По словам Ю. Кристевой, «воображаемое – калейдоскоп моих образов, исходя из которых формируется субъект высказывания» [Кристева 2000: 297]. То, что сначала не получает символического признания в обществе, воплощается отдельными индивидами (чаще всего – художниками, писателями, поэтами) в дискретных образах, которые приходят словно из «ниоткуда» (к примеру, внимательное чтение дневниковых записей З. Гиппиус, А. Белого, А. Блока обнаруживает визионерские упоминания «света», «огня», «музыки» или «шума», ставшие предчувствиями революционных событий в повседневной жизни «Серебряного века»). Странные образы – предусловие перехода к систематике языка – воплощаются в «священном мусоре» (выражение принадлежит Л. Улиц-кой): фрагментах повседневности, запечатленных в снах, телефонных сплетнях, граффити на заборах или инстаграме…
Эстетико-психологическое отступление:
интуиция шума в поэтике Серебряного века
В «Поэме без героя» А. Ахматовой загадочный гул – знак настоящего, а не календарного ХХ столетия:
И всегда в темноте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Жил какой-то будущий гул,
Но тогда он был слышен глуше,
Он почти не тревожил души
И в сугробах невских тонул.
Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек,
А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.
Тот же шум, очевидно, слышал Блок – современники утверждают, что смертельная болезнь поэта стала следствием его внезапной внутренней «глухоты» к звукам революции: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь (чтобы заглушить его – призывы к порядку семейному и православию). Штейнер его “регулирует”?» (из дневника от 29-го января 1918 г.). Блок, как и многие интеллектуалы того времени, интересовался мистическими и оккультными практиками – отсюда его мимолетное указание на фигуру основателя антропософии.
Однако даже знаменитые русские поклонники Р. Штейнера – А. Белый и его спутница А. Тургенева – не были способны регулировать шум, только – ретроспективно улавливать. Тургенева вспоминает:
Сидя ночами на террасе всей семьей, в том числе с убежденным марксистом, не допускавшим необъяснимого, мы прислушивались к невнятному гулу с большой дороги, проходившей из Луцка за версту от нашего дома. Гул, похожий на этот, стоял по ночам над Москвой в 1904 году, многие слышали его тогда. Теперь чудилось в нем движение по большаку тысячных толп, крики, грохот колес и глухие, как бы подземные удары – грома или пушек? Войной четырнадцатого года Луцк был наполовину разрушен.
Не был ли этот странный – страшный – шум, и ныне слетающий с пыльных страниц мемуаров, предвестником революции и кровавого террора, масштабы которого никто не мог представить в самых смелых и фантастических предсказаниях? «Столкновение различных миров» оказалось, увы, не симфонией или музыкой сфер, как мечтал В. Кандинский в своих визионерских трактатах, а указанием на грохот военных машин убийства и смерти? Можно ли считать «шум» до-дискурсивным способом воображения и прогностики радикальных сломов российского общества и культуры рубежа XIX–XX столетий?..
В социально-психологической перспективе «социальное воображаемое» фиксирует именно все эти неотчетливые интуиции (фантазмы) социального познания как исходный визуально-образный «материал» для последующего означивания в четких символических структурах социальных представлений и коллективных переживаний. Тем самым задается психологический фокус микроанализа повседневности – экспликация «неочевидности», «спрятанной» в будничных ритмах и не артикулированной в публичном дискурсе, что, по сути своей, является реализацией методологии латентных изменений [Гусельцева 2017a]. Предполагается, что эти латентные образы содержат альтернативные идентификационные модели, стратегии понимания и совладания с эпохой перемен, по тем или иным причинам «выпадающие» из доминирующих дискурсов. Задача исследователя заключается в том, чтобы пунктировать воображаемое языковыми знаками и сделать всеобщим достоянием.
Этнография повседневности как методология латентностиЭтнография – это метод включенного наблюдения за культурами и субкультурами, предполагающий длительное осуществление полевой работы в контексте их повседневной жизни; традиционно используется антропологами. Ф. Боас, Б. Малиновский, Э. Эванс-Причард, М. Мид, Р. Бенедикт фокусировались на сравнительном анализе культур с точки зрения ценностей, нравов и обычаев. В первой половине XX в. этнографический метод заимствуется социологами для изучения экологии городского пространства (исследования Чикагской школы). Такой тип этнографии получил название урбанистической, где в роли «аборигенов», метафорически выражаясь, выступают жители мегаполисов. Этнография переопределяет предметное поле – теперь нет нужды совершать длительные путешествия, чтобы встретиться с иной культурой, достаточно перейти в соседний район.
Ученик Ф. Боаса А. Гольденвейзер рассматривал «психологичность» как один из трех «краеугольных камней» этнографии (вместе с «критичностью» и «историчностью») [Токарев 1978]. Вслед за антропологами и социологами – со значительным опозданием – психологи стали стремиться вывести свои исследования из «вакуумных лабораторий» в реальные жизненные ситуации. Поэтому эксперименты Э. Мэйо, К. Левина, Ф. Зимбардо, Д. Розенхана ретроспективно прочитываются как реализации этнографического дизайна, хотя этнографические методы, развиваемые сегодня в рамках качественного подхода, все еще остаются недостаточно востребованными и разработанными психологией [Бусыгина 2015; Мельникова и др. 2013; Griffin, Bengry-Howell 2017].
В фокусе внимания современной антропологии – не наблюдаемое поведение как таковое, а аффективно-когнитивные механизмы, помогающие людям координировать и выстраивать социальные отношения; этнография «уже давно перестала быть средством коллекционирования экзотических обычаев и раритетов, поставщиком развлекательной информации» [Орлова 2010: 572]. Этнографические методы развиваются благодаря познавательным возможностям качественной методологии и включают в себя собственно наблюдение, анализ текстов, кино– и фотоматериалов [Ярская-Смирнова, Романов 2012].
Основная характеристика этнографических методов – включенность исследователя в естественный контекст повседневности на равных с его участниками в течение довольно продолжительного времени, что подчеркивает значение рефлексивности и субъективности как средства интерпретации и репрезентации изучаемой группы [Барнард 2009]. Степень включенности и выбор позиции обусловлены поставленными целями и задачами, а также социальным контекстом, его участниками и возможностями самого этнографа. Репертуар ролей можно представить как континуум от полной вовлеченности в социальный контекст до отстраненности, гибко меняющийся по ходу исследования.
Выйдя за дисциплинарные пределы классической антропологии, этнографические исследования приобретают несколько иное звучание (при сохранении направленности на понимание смысловой реальности Другого, репрезентированной в локальных практиках и различных социокультурных средах): отныне они призваны зафиксировать подвижность повседневной жизни в современном мире, что оборачивается такими методологическими проблемами, как фрагментация и деконтекстуализация полевого материала. В скоростных ритмах нашего времени возрастает риск, того «что информанты предпочтут пойти домой и побыть в одиночестве, или исчезнут посередине полевого исследования, или не придут на встречу, – и нет никакой уверенности, что антрополог получит доступ к их социальным сетям» [Эриксен 2014: 73]. Отсюда предсказуемо развитие инновационных методов, к которым относятся: 1) видеография [Кноблаух 2009], 2) нетнография [Kozinets 2010] и 3) автоэтнография [Рогозин 2015]. Описание процедуры – по указанным ссылкам, а пока приведем пример этнографического анализа «латентного» социального познания.
Так, в проведенном нами пилотажном этнографическом исследовании одного из эзотерических центров г. Москвы, предлагающего услуги гадания на картах и астрологии, которые позиционируются как психологические консультации (и «специалисты», как мы убедились, имеют соответствующие дипломы, в том числе – ведущих учебных заведений), были использованы все обозначенные методы вкупе с более традиционными – в том числе полуструктурированное наблюдение и глубинное интервью. Мы наблюдали за реальными ситуациями «консультирования», сами приходили в качестве «клиентов» (и впоследствии составляли автоэтнографические отчеты о полученном опыте), искали отзывы в интернет-сетях и принимали непосредственное участие в виртуальных дискуссиях.
Предварительные результаты этого сложного по дизайну исследования позволяют сделать вывод о том, что увлечение, а затем «профессиональное» изучение эзотерических практик является одним из культурных средств субъективации в изменяющейся структуре пост-советского общества. При том что эзотерический дискурс занимает видное место в медиа-коммуникациях, позиция включенного в него человека остается все же достаточно маргинальной. «Специалист», якобы владеющий «даром предвидения» и символическим инструментарием, ввиду этой позиции легко создает пространство конфиденциальности и исполняет «психотерапевтические функции» в отношении личных и социальных проблем, табуированных в культуре. Тем самым означиваются фантазмы, предчувствия и страхи, которые не могут быть доверены никому другому, кроме как постороннему человеку из совершенно иного жизненного мира. Эмпирическая апробация этнографического метода подтверждает теоретический тезис о том, что в неочевидных контекстах повседневности обнаруживается нетривиальный материал для дальнейшего анализа массового сознания.
В междисциплинарной перспективе получает научное обрамление романтический тезис Э. Т. А. Гофмана о том, что противоположность между воображаемым и реальным мирами – это необходимая иллюзия, установленная культурой, на самом деле оба мира тесно взаимосвязаны друг с другом и переходят один в другой, а иной раз, в ситуации транзитивного общества, эти переходы имеют драматические оттенки [Марцинковская 2016]. Повседневная жизнь представляет собой пространство слияния воображаемого и реального, в котором осуществляется непрерывное творчество новых форм социального познания; по истине, «память и воображение живут тем, что общество поместило в них» (А. Бергсон). На наш взгляд, инструментами реконструкции социального воображаемого в повседневности, т. е. всего того спонтанного фантазийного-образного материала, что не символизирован в дискурсе, социальных представлениях и коллективных переживаниях, являются, прежде всего, этнографические методы включенного наблюдения и полевой работы, адаптируемые к современным условиям и ритмам. Этнография повседневности – это качественная методология анализа латентности, которая в «суете и прахе» отведенных нам дней пытается найти психологические средства преодоления растерянности человека перед лицом истории в черной маске неопределенности. Удастся ли психологии отделить символические зерна от плевел воображаемого?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































