Текст книги "Mobilis in mobili. Личность в эпоху перемен"
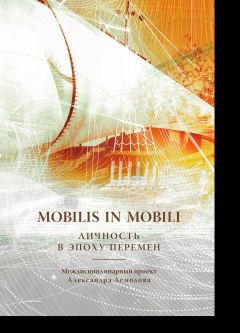
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 54 страниц)
Андреева 2011 – Андреева Г. М. К вопросу о кризисе идентичности в условиях социальных трансформаций // Психологические исследования. 2011. 6 (20). 1. (URL: http://psystudy.ru)
Андреева 2012 – Андреева Г. М. Презентации идентичности в контексте взаимодействия // Психологические исследования. 2012. 5 (26). 1. (URL: http://psystudy.ru)
Асмолов 2014 – Асмолов А. Г. Исторический смысл кризиса культурно-деятельностной психологии // Мир психологии. 2014. № 3. С. 17–33.
Бауман 2002 – Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002.
Белинская 2013 – Белинская Е. П. Динамика представлений человека о себе: история изучения и современное состояние проблемы // NB: Психология и психотехника. http://e-notabene.ru/psp/article_767.html. 2013. № 4. С. 1–51.
Зинченко 2007 – Зинченко В. П. Толерантность к неопределенности: новость или психологическая традиция? // Вопросы психологии. 2007. № 6. С. 3–20.
Леонтьев 2009 – Леонтьев Д. А. Лабиринт идентичностей: не человек для идентичности, а идентичность для человека // Философские науки. 2009. № 10. С. 5–10.
Марцинковская 2014 – Марцинковская Т. Д. Методология современной психологии: смена парадигм?! // Психологические исследования. 2014. 7 (36). 1. (URL: http://psystudy.ru)
Соколова 2014 – Соколова Е. Т. Утрата Я: клиника или новая культурная норма? // Эпистемология и философия науки. 2014. № 3. С. 191–209.
Турушева 2014 – Турушева Ю. Б. Особенности нарративного подхода как метода изучения идентичности // Психологические исследования. 2014. 7 (33). 6. (URL: http:// psystudy.ru)
Тхостов, Рассказова 2012 – Тхостов А. Ш., Рассказова Е. И. Идентичность как психологический конструкт: возможности и ограничения междисциплинарного подхода // Психологические исследования. 2012. 5 (26). 2. (URL: http://psystudy.ru)
Якимова 1999 – Якимова Е. В. Социальное конструирование реальности: социально-психологические подходы. М., 1999.
Baumeister 1995 – Baumeister R. F. The need to belong: interpersonal attachements as a fundamental human motivation // Psychological Bulletin. 1995. Vol. 117. P. 75–90.
Berzonsky 2008 – Berzonsky М. Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes // Personality and Individual Differences. 2008. Vol. 44. P. 645–655.
Breakwell 2010 – Breakwell G. M. Resisting representations and identity processes // Papers on Social Representations. 2010. Vol. 19. P. 6.1–6.11.
Castells 1998 – Castells M. The Information Age; Economy, Society and Culture. N. Y., 1998.
Cinnirella 1998 – Сinnirella M. Exploring temporal aspects of social identity: the concept of possible social identities // European Journal of Social Psychology. 1998. Vol. 28 (2). P. 227–248.
Hoyle, Sherrill 2006 – Hoyle R. H., Sherrill M. R. Future orientation in the self-system: possible selves, self-regulation, and behavior // Journal of Personality. 2006. No. 6 (74). P. 1673–1696.
Jaspal, Cinnirella 2010 – Jaspal R., Cinnirella M. Coping with potentially incompatible identities: Accounts of religious, ethnic, and sexual identities from British Pakistani men who identify as Muslim and gay // British Journal of Social Psychology. 2010. No. 4. Vol. 49. P. 849–870.
Markus, Nurius 1989 – Markus H. R., Nurius P. Possible Selves // American Psychologist. 1989. Vol. 41. P. 954–969.
Oyserman et al. 2014 – Oyserman D., Destin M., Novin S. The context-sensitive future self: possible selves motivate in context, not otherwise // Self and Identity. 2014. (URL: http:// sites.northwestern.edu/scmlab/files/2014/08/)
Oyserman, Fryberg 2006 – Oyserman D., Fryberg S. The possible selves of diverse adolescents: Content and function across gender, race and national origin // Possible Selves: Theory, research and applications / Ed. by C. Dunkel, J. Kerpelman. Nova Science Publishers, 2006.
Tajfel, Turner 1986 – Tajfel H., Turner J. C. The social identity theory of intergroup behavior // Psychology of intergroup relations. Chicago, 1986. P. 7–24.
Turner 1994 – Turner J. Self and collective: cognition and social context // Personality and Social Psychology Bulletin. 1994. Vol. 20 (5).
Vignoles et al. 2008 – Vignoles V. L., Manzi C., Regalia C., Jemmolo S., Scabini E. Identity motives underlying desired and feared possible future selves // Journal of Personality. 2008. 5 (76). P. 1165–1200.
Е. Т. Соколова
Трансформации самоидентичности в условиях социокультурной неопределенности4141
Впервые опубликовано: Соколова Е. Т. Шок от столкновения с социокультурной неопределенностью: клинический взгляд // Психологические исследования. 2015. 8 (40). 5. (URL: http://psystudy.ru) Публикуется с небольшими изменениями и дополнениями.
[Закрыть]
Непрогнозируемые социальные катаклизмы и возрастание сложности организации культурного целого составляют отличительную черту современного общества с его готовностью к широкомасштабным изменениям, риску и многообразию возможностей индивидуального выбора, а также принятию сверхценности индивидуального своеобразия и личной автономии, высокой толерантности к пестрой палитре культурных контекстов и в целом – к ситуации неопределенности [Бек 2000; Бауман 2002]. Именно «неопределенность» становится сегодня ключевым понятием и теоретической рамкой, объединяющей изучение как вариативности феноменов индивидуального и общественного сознания, так и собственно клинических расстройств самоидентичности [Соколова 2014].
Внутри постнеклассической парадигмы в психологии различают объективную и субъективную неопределенность: неопределенность окружающей среды связана с природной, технологической и социальной непредсказуемостью и высокой частотой эксцессов бифуркации. Субъективная неопределенность, в частности, взятая в клиническом ракурсе исследования, привлекает внимание к остро-шоковым и труднопереносимым состояниям базовой онтологической тревоги, неуверенности в себе и собственной идентичности, а также к семантической и смысловой многозначности жизненных явлений, «сталкивающих» субъекта с необходимостью признания известной ограниченности индивидуальных познавательных возможностей, принятия собственного «несовершенства» как живого экзистенциального переживания.
Термин «толерантность к неопределенности», как известно, был введен в середине прошлого века в теории авторитаризма [Adorno et al. 1950] и интерпретировался автором как предпочтение разных форм политического устройства в зависимости от способности субъекта справляться со сложной организацией общественной жизни, индивидуальной свободой и ответственностью. По мнению авторов, пытающихся обнаружить психологические закономерности, лежащие в основе исторического феномена нацизма, именно нетерпимость к неопределенности способна породить свою противоположность – абсолютизацию жесткого порядка, регламентацию и подчинение частной жизни абсолютному социальному контролю и тоталитаризму власти. Через тринадцать лет Ханна Арендт, анализируя «случай Эйхмана», сформулирует свою версию психологических истоков насилия и укажет на «банальность зла» в качестве первопричины преступлений против человечности [Арендт 2008]. Согласно Арендт, Эйхман не был человеком необычным, не был и садистом, а был заурядным обывателем, чья самоидентификация полностью зависела от господствующей идеологии нацизма и подчинялась ей. Иными словами, ценой отказа от собственного Я и благодаря автоманипуляциям – самообману и самооправданию, лицемерию и ханжеству, формально-бюрократическому (мертвенному и полезависимому) стилю мышления, засоренности сознания де-индивидуализированными и обезличенными канцеляризмами-клише и высокопарными эвфемизмами, ему удавалось скрывать правду от самого себя, избегать осознания собственной вины и личного соучастия в преступлениях.
Дальнейшая «психологизация» самого понятия неопределенности привела к включению в данный феномен широкого спектра эмоциональных, когнитивных и поведенческих реакций, возникающих в ответ на незнакомые, сложные, неожиданные или многозначные по своей возможной интерпретации стимулы, ситуации или любые другие качества информации, взаимодействие с которыми сопряжено с необходимостью выбора из «поля» «интерферирующих» альтернатив [Белинская 2007; Корнилова 2010]. В этих условиях взаимодействие с социальным или предметным окружением осуществляется посредством психологических механизмов разного уровня осознания, таких как бессознательная защита или осознаваемый копинг, направленных на процесс «снятия неопределенности», «структурирования», «трансформации неопределенности» путем преобразования первоначального хаотического или слабо структурированного материала в некоторую связную, упорядоченную и осмысленную структуру – образ, идею, символ, ментальную репрезентацию отношения к себе и Другому [Соколова 2009а; 2012].
Разрабатывается методология исследования и конкретные процедуры экспериментального создания условий неопределенности: «расфокусированность» стимула и способов его предъявления, его смысловая многозначность или двусмысленность, эмоциональная депривация, варьирование инструкции и индуцированнной мотивации, а также коммуникативного и группового контекстов и др. Благодаря исследовательским моделям, основанным на принципе контроля меры структурированности предметного и социального окружения, теоретически обоснованным интеграцией психоанализа, проективной психологии и социального когнитивизма 40–60-х гг. прошлого века, изучены роль установки, активности, пристрастности субъекта, субъективной устойчивости к давлению внешней среды («поля»), клинические, индивидуальные, возрастные и культурные различия в познавательных стратегиях и в когнитивно-аффективных стилях [Брунер и др. 1971; Соколова 1976; 1980; 2009а; 2009б; 2012; 2014; 2015; Холодная 1998; Blatt et al. 1997; Hogg 2007; Witkin et al. 1954; Witkin et al. 1974 и др.]. Предполагается, что процесс категоризации может рассматриваться в качестве генерализованной когнитивной стратегии преобразования «хаоса» неопределенности в связное целое, разворачивающейся на разных уровнях сознания [Брунер и др. 1971]; выбор между «внутренней» или «внешней» точкой отсчета также позволяет «снять» двусмысленность ситуации, возникающей вследствие конкурентных фигурофонных отношений [Witkin, Goodenough 1981]. Методологической основой подобных представлений о неопределенности служит концепция системного развития Хайнца Вернера о прогрессивной дифференциации и интеграции, рассматривающая становление познавательных процессов и личностной идентичности на основе принципа холизма через механизм образования все более дифференцированных структур («стилей») и усложнение связей между ними [Кернберг 2000; Чуприкова 2007; Соколова 2009а; 2009б; Werner 1957], в единстве и взаимодействии индивидуального и социального, «аффекта и интеллекта».
В данном контексте уместно вспомнить о проективных методах косвенного исследования клинических аспектов личности как отношения человека к неопределенности, направленных на моделирование переживания неопределенности, создаваемого посредством информационного, сенсорного, эмоционального или смыслового дефицита, а также коммуникативной «абстиненции». Условиями, обеспечивающими переживания неопределенности (и одновременно экспериментальными приемами ее создания), становятся специфическая организация целостной ситуации проективного обследования (стимульного материала, его предъявления, мотивирующей инструкции) и специфика экстериоризуемых и формирующихся в процессе всего обследования отношений в диаде «обследуемый–психолог». Многоаспектность депривации, созданная условиями проективного исследования, усиливает нагрузку на стрессоустойчивость человека, его способность «переносить» неопределенность без потери ориентации в реальности, без дезинтеграции личности, без саморазрушения и разрушения целенаправленного взаимодействия с физическим или социальным и межличностным окружением. Вместе с тем, при расстройствах личности ситуация неопределенности провоцирует очень широкий спектр интенсивных эмоциональных состояний возбуждения, тревоги и тем самым активирует сложившуюся патологически искаженную систему ментализационных структур, защитных и копинговых стратегий саморегуляции, репрезентаций Я и Другого.
Неопределенность межличностных отношений с диагностом порождается некоторой двойственностью его коммуникативной позиции: сочетанием доброжелательно нейтральной установки и фрустрирующим избеганием прямых ответов на вопросы пациента. Это позволяет последнему «встретиться» с собственным опытом переживания неопределенности, реконструирующим хаос аффективных состояний и тревог, травматичный ранний опыт эмоциональных отношений со значимыми Другими, мир инфантильных страхов, конфликтов и защит. Содержательная специфика эмоциональных переживаний, способы их структурирования и контроля, качественные и стилистические особенности познавательной деятельности в условиях неопределенности служат критериями диагностической оценки пограничной и/или нарциссической структурно-функциональной личностной организации. Так, феномен «бегства от неопределенности» свидетельствует в пользу ярко выраженной «полезависимости», высокого уровня тревожности и субъективного неблагополучия, «хрупкости» и «диффузии» Я. Предпочтение стереотипов прошлого, формализованных схем, устойчивых до ригидности традиций, авторитарного стиля власти и тотального сопротивления изменениям интерпретируется как бессознательная и примитивная защита Я от избыточного и субъективно невыносимого дискомфорта, испытываемого перед лицом самой жизни с ее неизбежностью развития, собственной активностью, персональными решениями и ответственностью.
Исходя из специфики проецируемого содержания тревоги, способов психологической защиты и переживания самоидентичности, можно говорить как минимум о пяти типичных переживаниях шока перед лицом социальной и культурной неопределенности, характеризующих баланс глобальной субъективной дезинтегрированности (глубины личностного расстройства) и ресурсных возможностей личности по «собиранию себя» [Соколова 2012].
1. Первый тип шокового состояния, самый архаичный, окрашен или даже точнее – «наводнен» всепоглощающим негативным аффектом, ядро которого составляет непереносимая персекуторная тревога. Здесь мера субъективной неопределенности максимальна и ее феноменология такова: неясность, размытость, бесформенность, безграничность, бессвязность вызывают к жизни паранойяльные фантазийные репрезентации чуждости, враждебности, расщепление и поляризацию позитивных и негативных качеств внешнего и внутреннего Другого в целях психологического выживания и, пусть иллюзорного, но сохранения целостности Я.
2. Второй тип также связан с отрицательным спектром эмоциональных состояний, но доминирует несколько иная феноменология: двусмысленность, амбивалентность, многозначность, непредсказуемость, противоречивость, запутанность, сложность. Страх новизны здесь ведет к защитному снижению уровня психического функционирования – когнитивной простоте и конкретности, предпочтению упорядоченности, обычности, рутинности, ограниченности и предсказуемости в качестве защиты от ожидаемой катастрофичности нового, не прогнозируемости будущего и «необжитых пространств неизвестности», переживаний шока, растерянности, агорофобии и паники перед лицом потери (само)контроля и постоянства Я.
3. Третий тип характеризуется непереносимостью неопределенности как ситуации отсутствия доступа к собственным внутренним ресурсам и как следствие – крайней зависимостью от поддержки Другого и социального окружения в целом; отказом от «акторства», собственной системы эталонов, предпочтением личного и социального конформизма, полным подчинением авторитету, режиму, власти, нивелированием собственного Я («утрате Я»), слиянием с ситуацией, как у «хамелеонообразного» героя известного фильма Вуди Аллена «Зелиг».
4. Четвертый тип шокового переживания неопределенности – маниакальное «опьянение» трансгрессией и хаосом, отсутствием всех и всяческих границ, любых сдерживающих нормативов и правил, триумф нарциссически-перфекционистской вседоступности и вседозволенности.
5. К последнему типу, гораздо менее представленному в патологии, относятся переживания, окрашенные позитивным эмоциональным тоном: любопытство, поисковая надситуативная активность, игра фантазии, порождение новых смыслов, радость, азарт, связанные с удовольствием от исследований и инсайтов и приводящие к творческому и осмысленному преобразованию ситуаций неопределенности.
Ряд эмпирических исследований свидетельствует о наличии не только клинических, но стилевых, возрастных и межкультурных различий в пороге переносимости неопределенности: он варьирует под влиянием ценностных установок индивидуализма–коллективизма, маскулинности–фемининности, межличностной дистанции и предпочитаемой плоскости отношения к власти и социальному контролю [Hogg 2007], подвержен ситуативным влияниям, сензитивен к социальному статусу индивида в группе и групповой динамике [Белинская 2007].
При развитии «оптимистической» линии в изучении феномена неопределенности с позиции историко-культурных и философских ее измерений обсуждается тезис об «объективности субъективного» В. П. Зинченко. Автором утверждается принципиальная неизбывность неопределенности, утверждается, что «определенность» психического, накрепко привязанная к принципу детерминизма в науке, по сути, не более, чем химера, в то время как неопределенность – атрибут всего живого и развивающегося – вездесуща и являет себя как «неоднозначность восприятия, многозначность слова, амбиваленность эмоций, множественность мотивов, ценностей, полифония сознания, открытость образа, неопределенность развязки в борьбе мотивов, в соревновании и противоборстве познания, чувства и воли, происходящих в нашей душе» [Зинченко 2007: 17]. Всякое «снятие неопределенности», с этой точки зрения, неизбежно вновь порождает неопределенность, и, в этом смысле, последняя неотделима от «текучести» самой жизни, противоположностью которой выступает определенность смерти.
Параметр социокультурной неопределенности рассматривается также в контексте эволюционных процессов как неустранимый атрибут всякого движения саморазвивающихся систем, с необходимостью порождающий «надситуативную активность» субъекта, новые формы культуры, новые способы действия в социуме. «Благодаря внесению неопределенности в строго детерминируемую систему культуры, – пишет А. Г. Асмолов, – данная культура приобретает необходимый резерв внутренней вариативности, становится более чувствительной и подготовленной к преобразованию в ситуациях тех или иных социальных кризисов» [Асмолов 2012: 38]. При этом адаптивные (стабилизирующие) и надситуативные деятельностные стратегии являются необходимыми моментами целостного эволюционного процесса, обеспечивающими и развитие, и его «удержание» в определенных границах, и, по всей видимости, маркируют разный уровень саморазвития субъекта – индивидный и личностный.
Один из современных социологических и психологических дискурсов проблемы неопределенности сосредоточен вокруг свободы индивидуального выбора идентичности (и даже ее произвольного «конструирования») в условиях глобализирующегося «общества риска». В мире хаотически меняющихся ценностей, иллюзий, трансгрессии и расплывающихся границ между дозволенным и запретным высшей ценностью становится свобода манипулирования (самим собой и другими), всевластие личного произвола в конструировании и бесчисленном «переиздании» собственного Я (ценностей, телесного облика, пола), а также забота о перфекционистской шлифовке фасадного и фальшивого образа Я [Бек 2000; Бауман 2002; Соколова 2009б; 2015]. Размытость индивидуальных нравственных устоев, эмоциональная тупость и своего рода имморализм остро проявляются в неопределенных или двойственных ситуациях социального взаимодействия: ограничения или избирательности доступа к информации, принятия решения в условиях повышенной ответственности, дефицита времени или персонального риска. Ситуация неопределенности способствует возрастанию «коммуникативной коррупции» – макиавеллизма и межличностной манипуляции, служащих насилию разного рода, завоеванию власти, самоутверждению в условиях базового переживания ressentiment (агрессивного реванша), замаскированной враждебности к Инакому, зависти к недосягаемой силе и могуществу Другого, превалирования стратегий конкуренции и борьбы всех со всеми (тотальной деструктивности) при полной неспособности к сотрудничеству. Еще одним примером деструктивной стратегии сверхкомпенсации ситуации неопределенности, переживаемой как непереносимое подтверждение фундаментального факта несовершенства Я, ограниченности человека в знаниях, уверенности, понимании, зависимости от Другого, может служить перфекционизм, понимаемый как преобладание магического и вымышленного нарциссически-грандиозного Я с его экспансивными и захватническими желаниями над живым, но уязвимым в своих пределах реальным Я.
С другой стороны, в открывшихся просторах неопределенности-свободы человек не может осуществить ни один акт выбора самоидентичности без страха эту свободу утратить, обретя ограничения предопределенности и ответственности. Он обречен на постоянный и не приносящий удовлетворения, незавершаемый процесс поиска и «примерок» разных идентичностей, причем его Я остается некоторой пустой полостью или ускользающей химерой; обнаруживается его своеобразная «диффузия» – феномен, достаточно изученный в клинической психологии Я [Кернберг 2000; Akhtar 1984] и, по всей видимости, чрезвычайно характерный для современного общественного сознания. Отсутствие предопределенности и свобода, которые могли бы стать факторами саморазвития и самосовершенствования, в подобных условиях оборачиваются страхами, тревогами и разочарованиями, связанными с любым выбором и любыми попытками ответственного самоопределения. Здесь возникает феномен, «парный» феномену непереносимости неопределенности, а именно, страх всякой определенности, конкретности, смысла, которые «подпитывают» и поддерживают состояние внутренней неопределенности, диффузности Я или «хамелеонообразной» всеядности, превращают Я в безликость и пустоту. «Уход в неопределенность» выполняет бессознательную защитную функцию, когда «размытость», «расфокусированность» создают что-то вроде «слепого пятна» в самовосприятии и восприятии Другого, препятствуя категоризации и смыслообразованию, в то время как «уклончивость» манипулятивных маневров-самозащит предотвращает открытое столкновение со сложной реальностью переживаний Я (утратой, болью, стыдом и виной) и межличностных отношений [Соколова 2009б; 2012]. В результате условия неопределенности из предпосылок свободы превращаются в благодатную «питательную среду» для расцвета морального релятивизма и «деконструкции» традиций человеческой солидарности; в фетиш возводятся ценности вечного движения, личного совершенства, молодости и бессмертия. Современному нарциссу присуща также страсть к развенчиванию и «разрыву» исторической преемственности, культ бездушия и цинично-манипулятивного отношения к Другому, а также отказ от деятельного участия в общественной и политической жизни [Липовецки 2001].
Расцвет культуры нарциссизма как тенденции к психологизации общественной жизни был спровоцирован (в том числе) «затуханием» революционных и либеральных процессов шестидесятых годов на Западе, нарастанием социального и политического пессимизма и вызвал ценностный поворот к индивидуализму, к простым радостям приватной жизни, к предпочтению обыденного и персонального, приоритета переживания-осознавания Я перед социальным поступком, отказ от регламентации, порядка и «сухой» рациональности. Спустя полвека, правда, оказалось, что «психологическая реальность» с ее заботами об улучшении качества жизни, духовном и телесном самосовершенствовании выглядит «суррогатом», не приносящим истинного удовлетворения. И современный человек вынужден прибегать к все новым и новым суррогатам, тем самым создавая все новые виды аддикции, стремясь избежать внутренней пустоты, пытаясь наполнить Я хоть каким-то смыслом. В то же время активные деятельные отношения человека с социумом все больше подменяются их виртуальным подобием, а реальное саморазвитие – разнообразными эгоцентрическими практиками самосовершенствования и самоудовлетворения.
Распространенность в современном обществе различных вариантов расстройства самоидентичности (нарциссизма, нестабильности, диффузии) заставляет относиться к этим феноменам и сопутствующим им перфекционизму и манипулятивности неоднозначно – как к «продуктам» провокативных веяний современной культуры (с ее культом неопределенности) и клиническому синдрому одновременно, мультифакторная (в том числе – и социокультурная) природа которого все еще недостаточно изучена. Подобно тому, как утрачивает целостность, секуляризируется и индивидуализируется современное общество потребления, так и Я человека подвергается процессу фрагментации вследствие избыточной поглощенности эгоцентрическими интересами, эмоциональной сосредоточенности на самом себе и изобилия предлагаемых социальными институтами способов телесной и душевной «бьютификации». Но культура и клиника здесь сближаются: нарциссическое, как и диффузное, расстройство самоидентичности коморбидно широкому кругу психических заболеваний и нарушений поведения: аффективной патологии, аддикциям и суицидам [Кернберг 2000; Akhtar 1984].
Новая социокультурная ситуация порождает и «нового пациента» в пространстве психотерапевтических практик, что требует критического анализа многих классических постулатов в области теории и практики психотерапии, культурной специфики и границ применения [Бурлакова, Олешкевич 2011; Соколова 2009а; 2009б; 2015а; 2015б]. Сегодня психологическим консультантам и психотерапевтам широкого круга приходится иметь дело с пациентами нового типа, чьи жизненные неудачи не в последнюю очередь обусловлены непереносимостью неопределенности, релятивизмом ценностей, отсутствием устойчивых моделей человеческих отношений и перспектив будущего, а глубина дезадаптации может угрожать самой их жизни. С целью предотвращения преждевременного прерывания ими психотерапии диагностика и скрининг клиентов с погранично-нарциссической личностной организацией составляет отдельную задачу на инициальных фазах консультирования. Эта задача может реализоваться при уточнении мотивации обращения, конкретизации и оценке реалистичности запроса; ее явным маркером служит возможность выработки «рабочего альянса» совместно разделяемых терапевтических целей и терапевтического сеттинга в целом.
Так, рентная мотивация отражает слабое чувство реальности и веру в магическое, расщепление Я с притязанием на всемогущество и одновременно – пассивность, истощенность, острую нужду в эмоциональной поддержке, нередко принимающую форму эксплуататорского, манипулятивного отношения, спроецированного на терапевта, а также примитивные механизмы психологической защиты в виде расщепления, проективной идентификации, идеализации и обесценивания. Обнаружение потребительских установок пациента на этапе установления первичного рабочего альянса или в кризисные моменты терапии может служить ценнейшей диагностической информацией и материалом терапевтической проработки неудовлетворенных ожиданий и разочарований пациента, его настойчивых требований и манипулятивного давления на терапевта, вплоть до использования инграциации (эмоционального или «вещного» подкупа) и шантажа, вынуждающих терапевта испытывать тягостное чувство вины и занимать позицию «спасателя». Однако если рассматривать терапевтические отношения как диадные и даже – диалогические, тогда в мощных спасательных чувствах можно увидеть непосредственный отклик на острое состояние нужды пациента в терапевте как «материнском контейнере». И если терапевт способен временно (тактическое отступление) «предоставить себя в распоряжение» в таком качестве, то затем и сам «напитавшийся» пациент будет готов к отношениям с большей сепарацией и ответственностью.
Предъявляемая нарциссическим пациентом (клиентом) цель «самосовершенствования и личностного роста» нередко является защитной маскировкой аутодеструктивного самоотношения и перфекционизма, свидетельствует о невозможности прямого запроса о помощи, поскольку субъективно ассоциируется с признанием собственной «слабости» (а признание даже частичной слабости и зависимости от другого человека опасны) и вызывает переживание «нарциссической раны» – краха собственного Я перед лицом опасности поглощения о стороны Другого. Иными словами, именно те качества психотерапевтической коммуникации, которым приписывается ответственность за позитивные изменения в терапии, у этих пациентов серьезно повреждены, в силу чего страдает надежность терапевтических отношений, снижается их «лечебный» потенциал и эффективность психологической помощи. Мы имеем в виду неспособность устанавливать и сохранять в течение длительного времени открытые, доверительные, исполненные ответственности и благодарности отношения с терапевтом, несмотря на испытываемые в процессе терапии естественные фрустрации и лишения, обусловленные ее организационными и этическими рамками, равно как и драматическими переживаниями, сопровождающими ее динамику. Кроме того, дефицит символизации сужает возможности использования преобразующей силы воображения и целебной силы слова в «контейнировании» травматического эмоционального опыта и его «детоксикации» [Соколова 2017].
Когнитивная дефицитарность и ослабленная способность к ментализации и символизации, рациональному мышлению и рефлексии, накладывают существенные ограничения на принятие своего рода неопределенности психотерапевтической ситуации, ее условности и метафоричности; она вызывает импульсивный и малоуправляемый регрессивный перенос архаически инфантильных (и травматичных) моделей переживания и восприятия себя в отношениях с терапевтом, серьезно угрожает сохранению психической целостности и пациента, и терапевта. Парадоксальное сочетание дисгармоничных коммуникативных установок прилипчивой зависимости с враждебной самоизоляцией наряду с превалированием примитивных защит (отреагирования, расщепления, отрицания, проективной идентификации, грандиозности) мешает сохранять временнýю стабильность психотерапевтических отношений, смысловую последовательность и связность в проработке личностных конфликтов. В иерархии мотивов ценности самозащиты преобладают над ценностью самоизменения, что проливает свет на одну из причин упорных сопротивлений позитивным изменениям, так называемой «негативной терапевтической реакции», приводящей к деструкции психотерапевтических отношений, их преждевременному прерыванию. Напротив, стремление пациента (клиента) к достижению обоюдно разделяемого с терапевтом «фокуса» видения психотерапевтических целей на каждом из этапов психотерапевтического процесса, способность развивать и поддерживать отношения сотрудничества в драматически развертывающемся процессе, удерживать организационно-этические рамки и ограничения психотерапевтических отношений в большей степени может свидетельствовать в пользу прогнозируемой эффективности психотерапевтической и консультативной помощи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































