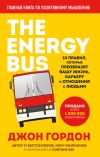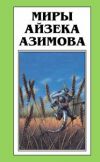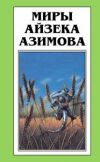Текст книги "Любовь и война. Великая сага. Книга 2"

Автор книги: Джон Джейкс
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 74 (всего у книги 87 страниц)
Глава 118
Той осенью в окопы вокруг Питерсберга прокрались волки. Вырыли себе нору в грязи, свернулись и, не переставая рычать, стали ждать своих мучителей.
Волки ели горелую кукурузу, но больше всего хотели снова глотнуть крови. У этих двадцатилетних щенков были глаза матерых хищников, повзрослевших от долгих убийств.
Подступивший холод выбелил многие лица; другие еще несли следы жаркого летнего солнца. Но все они – красные и белые – были грубыми и суровыми. Беспощадными.
Со своими оловянными кружками, одеялами, патронташами и ружьями эти мальчики с плантаций, ферм из маленьких городков прошагали с бесконечными боями через всю страну. Теперь они подошли к последнему рубежу – с огрубевшей кожей на голых ногах, в истрепанных мундирах, с вечными поносами и кишками, поющими, как трубы в гостинице. Они сидели в окопах, не имея уже ничего, кроме мужества и своей славы, которая была больше их всех. И даже если бы их число превышало впятеро, она все равно была бы больше. Их слава стала настолько огромной, что уже было ясно, что она точно переживет и эти громкие речи, и патриотические лозунги, которых теперь никто не помнил, и тех, кто послал их сюда ради какой-то глупой цели, и даже их кости.
Когда землю покрыл первый снег, волки превратились в легенду. Это была армия Северной Виргинии.
Звук донесся справа от разбитой лежневки и затих раньше, чем Орри успел это понять. Он повернул в ту сторону. Два молодых необстрелянных виргинца из временной бригады Монтегю последовали за ним. Они ехали вдвоем на одном жеребце; теперь из-за нехватки лошадей это стало обычным зрелищем на оборонительных линиях Питерсберга.
Дорога шла на запад от Ричмонда. Находясь к северу от берега Джеймса, дивизия переместилась даже еще дальше Питерсберга, на самый край левого фланга обороны. Сейчас она шла от батареи Данцлера, названной так в честь погибшего южнокаролинца, к Свифт-Крику. Было девять утра пятницы, день перед Рождеством.
Лошади нервничали в густом тумане, фыркали и отказывались стоять спокойно. Орри чуть не угодил в провал между сгнившими бревнами, таких дыр было много в наполовину разрушенной дороге. По обе стороны от нее темнели зловещие стволы голых деревьев и дремлющие купы кустов между ними. Белый густой туман поглощал звуки и заполнял собой все.
– Вы слышали? – спросил Орри, положив руку на эфес сабли.
Вместе с двумя ординарцами он возвращался из штаба Первого корпуса, когда этот звук, достаточно громкий, чтобы расслышать его за стуком копыт, заставил их остановиться.
Опасливо вглядываясь в деревья, ординарцы кивнули.
– Как будто кто-то звал на помощь, сэр, – сказал один из них. – Ну, по крайней мере, мне показалось, что я слышал слово «помогите».
– Хотите, чтобы мы проверили, сэр? – спросил второй солдат.
Чутье подсказывало Орри, что этого делать не надо. Они и так сильно задержались в штабе, а туман был хорошим прикрытием для засады. Там мог прятаться и один человек, и целая дюжина. Он попытался восстановить в памяти тот звук и согласился с солдатами: в нем действительно звучала боль.
– Я поеду впереди, – сказал он.
Солдаты развернули свою лошадь и достали револьверы. Орри тоже вынул свой из-за пазухи. Заставив лошадь идти по скрытой туманом тропинке между деревьями, он внимательно смотрел влево, вправо, вперед – и потом снова в том же порядке.
Атмосфера этого утра угнетала его. Как и мысль о том, что придется встречать Рождество без Мадлен. Ну что ж, зато на будущий год в это время они точно будут вместе в Монт-Роял. Шерман в Джорджии подходил к океану. Следующей целью военно-морского флота Союза наверняка станет форт Фишер, а когда он падет, то падет и последний открытый порт. Боб Ли, сгорбленный, седой и, как говорили, нехарактерно для себя раздражительный в последнее время, мог рассчитывать только на шестьдесят пять тысяч голодных, оборванных людей, чтобы защищать рубеж, протянувшийся на тридцать пять миль от Уильямсберг-роуд до Хэтчерс-Рана к юго-западу от Питерсберга. Никто уже не говорил всерьез о победе, а лишь о том, чтобы продержаться и выйти из этой войны без большого позора.
Орри медленно втянул носом воздух, и у него вдруг появилось странное и тревожное чувство, что этот окутанный туманом лес наполнен нежным ароматом олив, всегда напоминавшим ему о родной Южной Каролине.
Внезапное тихое ржание испугало его лошадь. Орри чуть натянул вожжи, взвел курок револьвера, обогнул следующее большое дерево и увидел лежавшего на земле кавалерийского мерина с огромной кровавой раной в боку. Животное подняло голову и бессильно дернуло ногами. Орри внимательно всмотрелся в упряжь и седло – мерин явно был из кавалерии северян.
– Эй, где вы там? – крикнул он в туман.
В тишине было слышно, как с деревьев капает вода. Потом раздался треск кустов и голос одного из ординарцев:
– Здесь…
Орри пустил свою лошадь вперед, бросив им через плечо:
– Этому мерину конец. Кто-нибудь, пристрелите его.
Послышалось невнятное бормотание, потом грянул оглушительный выстрел, эхо которого прокатилось по лесу, заглушив предсмертные судороги животного.
И снова стало тихо.
Проехав мимо еще одного дерева, Орри наконец увидел его. Он сидел, прислонившись к мокрому стволу и вытянув одну ногу в синей брючине с желтым лампасом вперед, вторую подвернув под себя.
Его глаза встретились с глазами Орри. В них сквозила боль, но и настороженность… взгляд казался почти ледяным. Это был совсем молодой человек с густыми бровями и заросшим щетиной лицом – из той породы, что никогда не сдаются. Его правая рука лежала вдоль ноги, а левая прижималась к окровавленной дыре на поясе темно-синего мундира. Предплечье левой руки было обмотано грязными бинтами. Насколько мог заметить Орри, у янки не было оружия, кроме сабли, остававшейся в ножнах.
– Нашел, – сказал Орри, не оборачиваясь.
Ординарцы подъехали ближе. Янки, который был почти в беспамятстве, наблюдал за ними опухшими глазами.
– Кто-нибудь, заберите у него саблю.
Солдат, сидевший первым, спрыгнул с седла и прошел вперед, держа в левой руке револьвер. Сабля со скрежетом выскользнула из ножен. Ординарец кашлянул.
– Бог мой, какой же он грязный, – закашлялся ординарец. – Гной, вши и неизвестно что еще… – Он посмотрел на Орри. – Плохая рана, полковник. Похоже, в живот.
– Как тебя зовут, янки? – спросил второй солдат.
Янки с трудом облизнул губы, но Орри поднял руку:
– Потом узнаем.
Второй ординарец выразил недовольство, спрыгивая на землю.
– Может, его тоже лучше пристрелить, а? – с досадой сказал второй ординарец, спешившись. – Как думаете, полковник? С такой раной он точно не выживет.
Он был прав. Раны в живот обычно оказывались смертельными. И возможно, они бы сэкономили время и силы своих и без того занятых врачей, если бы сейчас пустили пулю в сердце этого янки и забыли о нем. Это было куда гуманнее, чем оставлять его здесь мучиться, да и умнее с другой точки зрения. Орри очень не нравился взгляд молодого северянина.
А потом его обожгло стыдом. Каким же чудовищем он стал, если вообще допускал подобные мысли? Он медленно вернул револьвер в кобуру у левого бедра, под кителем. Потом спрыгнул на землю и с трудом распрямил затекшую спину. Его высокая фигура, несмотря на грязный, истрепанный мундир и подколотый левый рукав, казалась удивительно аристократичной.
– Пусть врачи сами решат, какие у него шансы, – сказал он виргинцам.
Он подошел к раненому; на лице янки не было благодарности, как и вообще никаких чувств. Что ж, Орри понимал этого человека, измученного войной и болью. Его настороженность сменилась легкой жалостью, когда он смотрел на солдата. А тот смотрел на него снизу вверх, закатив белки.
Орри отступил на два шага назад и встал между вытянутой ногой раненого и ординарцами.
– Посмотрим, – сказал он, повернувшись к ним, – можно ли соорудить носилки из веток и попоны. А потом…
Что-то щелкнуло за его спиной, и он еще успел заметить, как на лице одного из виргинцев отразился ужас. Орри на секунду закрыл собой янки от ординарцев, которые наблюдали за ним, и тогда тот воспользовался моментом и выхватил из-под правой ноги кольт. А потом прицелился в затылок Орри и нажал на курок.
Выстрел снес полчерепа. Когда Орри упал на колени, уже мертвый, ординарцы с бессильными криками и проклятиями начали стрелять в янки. От каждой пули он дергался из стороны в сторону, как обезумевшая марионетка, а когда стрельба наконец прекратилась, плавно завалился на бок и как будто уснул. Дрожащие солдаты опустили оружие, и лес снова окутала туманная тишина.
В то же день, незадолго до полудня, Мадлен вышла из Бельведера, чтобы прогуляться по холмам. В доме царило ликование после новостей, пришедших утром по телеграфу и за два часа разлетевшихся по всему Лихай-Стейшн. За три дня до этого генерал Шерман послал президенту неожиданное поздравление.
«Позвольте поднести вам в качестве рождественского подарка город Саванну».
Мадлен не могла разделить всеобщего ликования, и, хорошо понимая это, Констанция из чувства такта сдерживала свои восторги от грандиозного похода Шермана к побережью Атлантики. Но ее радость проявлялась во всем. Даже Бретт как будто была довольна новостью, хотя ничем этого не показала. Все это всерьез обидело Мадлен.
Она стыдилась этого чувства и пыталась избавиться от него, поднимаясь вверх по тропе к одной из пологих вершин, поросших горным лавром. Декабрьское солнце наполнило день приятным теплом. Погода в последнее время стояла на удивление мягкая, почти осенняя. Мадлен даже пожалела, что взяла шаль.
С вершины холма она услышала первый удар колокола. Часовня Святой Маргариты в долине, догадалась она. Прожив здесь всего несколько недель, Мадлен уже научилась определять разные церкви по колокольному звону и вообще узнала много интересного об этом промышленном городе, где ее тепло приняли Хазарды и слуги в доме. Но все равно Лихай-Стейшн оставался для нее чужим, и как бы она ни обманывала себя, пытаясь поверить в обратное, у нее ничего не получалось.
Следом за Маргаритой и остальные церкви, одна за другой, тоже огласились праздничным перезвоном. Глядя вниз, на подернутый дымкой город, Мадлен думала только об одном: «Как бы мне хотелось, чтобы Орри приехал на Рождество!»
Вдруг словно что-то коснулось ее шеи. Она подняла голову и огляделась, потом посмотрела на небо. С северо-запада надвигалась огромная серая масса. Ветер внезапно сменился, и она снова почувствовала на шее его стылое дыхание.
Она поплотнее закуталась в шаль, теперь уже радуясь, что захватила ее. Все усиливающийся ветер трепал подол ее платья. Она подумала о том, что досадовать на ликующий колокольный звон вовсе не следует, ведь каждая победа северян приближала тот день, когда Орри сможет покинуть Ричмонд, они вернутся в Монт-Роял и снова будут вместе. Так что для нее это был звон надежды.
От ее прежней обиды не осталось и следа, и она даже еще немного постояла под быстро темнеющим небом, чтобы послушать громкую, нестройную, но все же такую прекрасную музыку городских колоколен. Сердце ее постепенно наполнилось покоем, когда она думала о том, что у них с ее возлюбленным будет еще много рождественских дней впереди. Когда она начала спускаться с холма, она уже чувствовала себя совершенно счастливой.
Часть шестая
Суд Божий

Мне кажется, сэр, наши люди устали от войны; они чувствуют себя несчастными и не способны бороться. Страна разорена.
Генерал Джо Джонстон – Джефферсону Дэвису, после Аппоматтокса, 1865 год
Глава 119
Мистер Лонзо Пердью, почтовый служащий и уроженец Ричмонда в третьем поколении, чувствовал себя ужасно несчастным. Десятки мелких признаков указывали на то, что предсмертная агония Конфедерации уже началась, а это означало, что и его родной город также обречен. Он был бы рад отправить свою любимую семью в какое-нибудь безопасное место, но где найти такое место, когда янки подошли совсем близко? Да и если бы он даже нашел такое убежище, что бы он оставил своей жене и дочерям? Деньги, которые платило правительство, ничего не стоили. Если какой-нибудь чиновник, находясь в отпуске, оказывался настолько удачлив, что находил пару ношеных ботинок, он должен был заплатить за них полторы тысячи долларов Конфедерации, да еще приплатить пятьсот сверху перекупщику.
Этот январь был самым холодным на памяти Лонзо Пердью. Сливки общества – та часть социального пирога, к которой его никогда не допускали даже по ошибке, – продолжали устраивать приемы, о чем сразу почтительно сообщали газеты. Теперь их называли голодными приемами. Аристократы пили тепловатый желудевый кофе и грызли кусочки речного льда, поданного на десертных тарелках.
В ледяном воздухе, в хороводе со снежными хлопьями, кружило отчаяние. Бандит Шерман бесчинствовал в Каролинах, оставляя за собой пепелища, насилуя и мародерствуя, как и до того в Джорджии. Адмирал Портер подошел к форту Фишер с флотилией Союза, и со дня на день в Ричмонде с ужасом ждали известий о сдаче гарнизона. Может, это уже произошло – новости в последнее время сильно запаздывали.
Мистер Пердью решил, что делалось это намеренно. Новости теперь были только плохими, и этот самовлюбленный слепец Дэвис просто не хотел, чтобы они доходили до людей, позволяя им знать лишь самое необходимое. Мистер Пердью на своей должности, разумеется, слышал разные слухи. Главные из них касались президента, о котором говорили, что он втайне просит мира. Это вполне могло оказаться правдой. «Инкуайрер» ядовито утверждала, что с приходом весны в окопах вокруг Питерсберга не останется ни одного человека из двух.
Предвестья скорого краха были повсюду. Миссис Пердью, ярая поборница всяческой благотворительности, делила свое время между Суповым обществом, чьи кухни раздавали голодающим водянистый суп с запахом картофеля, и женским кружком при церкви Святого Павла, в котором дамы занимались тем, что собирали отовсюду старые ковры, резали их на части, паковали и отправляли на фронт в качестве одеял.
По пути на ежедневную службу мистер Пердью больше не останавливался поболтать со знакомыми, которых видел на улице. Его единственное пальто было пожертвовано – весьма напрасно, как он теперь понимал, – армейскому сборщику, еще осенью. Единственная пара шерстяных перчаток, сплошь дырявых, нисколько не согревала руки.
Впрочем, знакомых в те дни он встречал редко. Вот раненых солдат – этих да, было предостаточно. Как и разгуливающих повсюду ниггеров. Но достойные люди покинули улицы. Сам мистер Пердью больше не решался выходить после наступления темноты, потому что отныне эти часы принадлежали по-прежнему преуспевающим карточным жуликам, уличным хулиганам, промышлявшим разбоем и грабежом, и спекулянтам, которые, пока все остальные голодали, все так же наслаждались шампанским и фуа-гра – проклятые предатели!
Если раньше мистер Пердью был открытым и уравновешенным человеком, то теперь он стал подозрительным и озлобленным и во всем видел предательство и заговор. Он устал от своей вечной диеты, состоящей только из белых бобов и еженедельного ломтика не слишком свежей индейки, которую он запивал каплей кальвадоса. Он любил омаров, но уже почти год их не ел, хотя Король Джефф наверняка регулярно получал их на ужин.
Мистер Пердью ненавидел те незримые неведомые силы, которые довели его жену и дочерей до нищеты. Вместо булавок и шпилек бедняжки вынуждены были использовать пальмовые веточки, а вместо пуговиц – кусочки высушенной тыквенной корки, выкрашенные в нужный цвет. В декабре дочери мистера Пердью Клитемнестре исполнилось одиннадцать, но единственный подарок, который он сумел найти и позволить себе, довел его до бешенства и разбил ему сердце. Маленькое дешевое ожерелье из серебристых переливающихся цветочков, сделанных из рыбьей чешуи, обошлось ему в тридцать долларов.
Газеты подтверждали близость конца другими способами. Страницы пестрели объявлениями о распроданных театральных билетах – толпы спешили насладиться последними зрелищами. Объявления о сбежавших рабах появлялись теперь нечасто, в какие-то дни их вообще не было, потому что владельцы слишком хорошо понимали, что им вряд ли удастся вернуть свою собственность благодаря еще неясным последствиям войны и отвратительным заявлениям мистера Линкольна.
Уши мистера Пердью также говорили ему, что конец близок. Не было дня или ночи, когда хотя бы раз не слышалась артиллерийская канонада на юге. Обстрелы стали частью их жизни, и если какое-то время пушки молчали, это пугало даже сильнее.
В то утро, более солнечное, чем остальные, но все равно очень холодное, мистер Пердью, уходя на службу, оставил жену в слезах. У их дочери Марселины через два дня был тринадцатый день рождения, и миссис Пердью удалось раздобыть немного атласа, чтобы починить последнюю пару туфелек девочки. Это должно было стать подарком. В половине первого ночи миссис Пердью сломала иголку, а потом разрыдалась, обнаружив, что неверно оценила нужное количество материала. Половина второй туфельки осталась незаконченной, а купить подходящего атласа было негде.
Горе жены стало еще одной причиной гнева мистера Пердью. Он выглядел даже мрачнее обычного, когда дошел до Годдин-Холла, четырехэтажного кирпичного здания на углу Одиннадцатой и Бэнк-стрит, недалеко от площади Капитолия. Почтовое ведомство размещалось на первом этаже; в этом же здании находились патентное ведомство Конфедерации и разные армейские службы.
Мистер Пердью сунул дырявые перчатки в карман и принялся за работу, садясь рядом со своим старым коллегой Сальварини, сыном известного в городе владельца мясного рынка, который недавно закрыл свое дело, отказавшись резать и продавать кошек и собак.
Сальварини уже вывалил два больших мешка почты на рабочий стол, которую нужно было рассортировать, разложить по ящикам или полотняным мешкам, лежавшим рядом. Теперь в почтовом ведомстве больше не было прежнего порядка, и служащие сами решали, как им удобнее работать.
– Жене все хуже, кожа совсем пожелтела, – пожаловался другу Сальварини, когда они начали сортировать письма, написанные на оберточной бумаге, кусках обоев, обрывках газет. – Придется найти врача.
– Да они же все в окопах, – огрызнулся мистер Пердью; руки у него наконец согрелись, и он начал с привычной ловкостью бросать письма в ящики и мешки. – Лучшее, что ты можешь сделать, – это найти пиявок.
– А это безопасно? Они чистые?
– Не могу ответить ни на один из этих вопросов, но точно знаю: их еще можно достать. Поищи в газетах. Десятки пиявочников дают объявления. Помню, миссис Пердью как-то говорила, что тот, который живет напротив отеля «Америкэн», считается одним из самых надежных… Эй, а это еще что?
Конверт в его руке выделялся среди других тем, что это был именно конверт – настоящий, должным образом запечатанный темно-синим воском, с уверенно надписанным адресом. Отправитель обозначил себя в верхнем углу как «Дж. Дункан, эсквайр».
– Адреса с каждым днем становятся все неопределеннее, – пожаловался мистер Пердью. – Взгляни.
Он протянул конверт Сальварини, и тот прочитал: «Майору Ч. Мэйну, кавалерийский корпус Хэмптона, армия КША».
– Да, – кивнул Сальварини, – и марки нет.
– Это я заметил. – Мистер Пердью нахмурился. – Могу поспорить, это кто-то из чертовых янки отправил письмо с нелегальным курьером, а тот не позаботился о марке, когда опускал письмо в почтовый ящик. Меня повесят, если я отправлю вражеское письмо.
Сальварини проявил большее милосердие:
– Может, отправитель какой-то южанин, у которого просто не было денег на марку?
Лонзо Пердью, уважаемый супруг, заботливый отец и преданный патриот, уставился на письмо. Вдали послышался грохот, стекла в окне над ними задребезжали. На лице Сальварини отразилось нечто похожее на облегчение.
– Правила есть правила, – заявил наконец мистер Пердью.
– Но ты ведь не знаешь, что в этом письме, Лонзо. А вдруг что-то важное? Новость о смерти родственника, например?
– Пусть этот майор Мэйн узнает об этом как-то еще, – возразил его коллега.
И небрежным жестом отправил конверт в деревянный короб, уже наполовину наполненный письмами без адресов, маленькими посылками с надписями, размытыми дождем или грязью, и прочей недоставленной корреспонденцией, которую полагалось какое-то время хранить, а потом уничтожить.
Глава 120
Продолжая участвовать в этой уже, без сомнения, проигранной войне, Чарльз все острее ощущал одиночество. Даже Хэмптон больше не выражал прежней уверенности, хотя и клялся, что будет сражаться до последней капли крови. Генерал становился все более мрачным, и ходили слухи, что он одержим жаждой мести, после того как в октябре его сын и ординарец Томас Престон погиб у Хэтчерс-Рана. Другой его сын, Уэйд-младший, был ранен там же и позже тоже скончался.
Что бы ни делал Чарльз в эти дни – ехал верхом, стрелял, выполнял рискованные задания, – его сознание словно пребывало в стороне от ежедневных событий, находясь в каком-то неведомом мире, из которого его товарищи и друзья уходили один за другим. Хэмптон получил повышение, и Чарльз его больше не видел, разве что издали. Дивизион Кэлбрайта Батлера, после того как, скакав всю ночь сквозь страшный буран, помог отбросить усиленный Пятый корпус губернатора Уоррена от Уэлдонского железнодорожного узла, вернулся домой. В Южной Каролине снова собирали людей, чтобы защитить штат от полчища Шермана.
Все это – да еще январская стужа – повергло Чарльза в самое глубокое уныние, какое он только испытывал. Но нестерпимее всего была мысль, которая терзала его и днем и ночью, такая же безжалостная и неумолимая, как боевая машина Гранта. Он начинал верить, что, расставшись с Гус, совершил самую ужасную ошибку в своей жизни.
Его борода, пронизанная седыми прядями, свисала теперь ниже середины груди. Собственный запах оскорблял его обоняние – мыло в армии закончилось еще осенью. Чтобы сохранять тепло на морозе, он с помощью иголки и ниток из своего тщательно охраняемого запаса соорудил похожий на пончо балахон из обрывков старой формы и даже заслужил после этого новое прозвище.
Он был в этом балахоне, когда они с Джимом Пиклзом, ежась от холодного резкого ветра, сидели у маленького костра одним темным январским вечером, наслаждаясь их первой за день трапезой, которая состояла из горсти горелой кукурузы.
– Цыган?
Чарльз поднял голову, а Джим сунул руку в перчатке без пальцев за отворот грязного мундира:
– Я сегодня письмо получил.
Чарльз промолчал. Сам он давно не ждал никаких писем, поэтому никогда не знал, когда привозили почту. Джим вытащил небольшой грязный листок и держал его двумя пальцами, подальше от огня.
– Из дома – шесть недель назад отправили. Моя мама умирает, если… – он откашлялся, и от его дыхания в воздухе поплыли облачка пара, – если только уже не умерла. – Он замолчал и внимательно посмотрел на друга, чтобы увидеть его реакцию на свои следующие слова: – Я уезжаю.
Такое заявление не стало неожиданностью, и все же голос Чарльза прозвучал холоднее январской погоды, когда он ответил:
– Это дезертирство.
– И что с того? Там о младших больше некому позаботиться. Некому, кроме меня.
Чарльз покачал головой:
– Твой долг – остаться здесь.
– Вот только не надо мне о долге говорить, когда половина армии уже рванула по дорогам на юг. – Обветренные губы Джима сжались. – Я уже сыт по горло всей этой фигней. Когда я чую запах дерьма, меня трудно обмануть.
– Это не имеет значения, – произнес Чарльз странным неживым голосом. – Ты не можешь уйти.
– А что изменится, если я останусь? – Джим швырнул остатки своей кукурузы в огонь; было заметно, что он уже на взводе. – Мы проиграли, Цыган! Все кончено! Джефф Дэвис это понимает, Боб Ли тоже, и генерал Хэмптон… все, кроме тебя!
– Не важно… – Чарльз пожал плечами. – Ты не можешь уйти. – Он посмотрел на Джима. – Я этого не допущу.
Пиклз потер ладонями в перчатках обросшие щетиной щеки. За границей светового круга тихо заржал голодный Бедовый. Фуража не было, лошади ели израсходованную бумагу и жевали хвосты друг друга.
– Повтори, что ты сказал, Цыган.
– Все просто. Я не разрешаю тебе дезертировать.
Джим вскочил. Это был уже не тот здоровяк, которого Чарльз увидел впервые; его крупное тело как будто съежилось, усохло.
– Ах ты, гад… – Он умолк, судорожно сглотнул, потом снова взял себя в руки.
В вышине скрипели большие голые ветви. Другие маленькие костры, разбросанные по всей глубокой расселине, мигали и дымили на ветру.
– Не мешай мне, Чарли, – снова заговорил Джим, – пожалуйста. Ты мой лучший друг, но, клянусь Богом, если ты попытаешься меня остановить, тебе достанется! И сильно!
Чувствуя невыносимую усталость, Чарльз смотрел на него из-под полей грязной шерстяной шляпы. Джим Пиклз говорил серьезно. Даже очень серьезно. Под балахоном у Чарльза скрывался кольт, но он по-прежнему сидел неподвижно на светлом снегу, оставшемся после дневного бурана.
– Что-то гложет тебя, Чарли, – грустно сказал Джим. – Ты бы разобрался в себе, пока не начал на своих кидаться.
Чарльз продолжал молча смотреть на него. Джим снова потер руки:
– В общем, счастливо оставаться. Береги себя.
Клубы пара растаяли, когда он повернулся и пошел прочь, медленно и уверенно. Еще в декабре подошва его правого ботинка протерлась насквозь, и Джим напихал внутрь бумаги и тряпок, чтобы хоть немного защитить ногу от холода и сырости, но они постоянно вываливались. И теперь тоже. Обрывки бумаги оставались в следах его ног. И красные точки, заметил Чарльз. Яркие красные точки в каждом отпечатке на свежем снегу.
Он слышал, как протопали копыта лошади Джима, но по-прежнему сидел на корточках перед угасающим костром, гоняя во рту последнее зернышко кукурузы. «Что-то гложет тебя». Составить список было нетрудно. Война. Любовь к Августе.
И его последняя чудовищная ошибка.
Два дня спустя Чарльз и пять других разведчиков, в форме, снятой с пленных янки, снова отправились наблюдать за левым флангом северян, проезжая мимо позиций конфедератов напротив Хэтчерс-Рана, к месту пересечения лежневок на Уайт-Оак и Бойдтон. В предрассветных сумерках, под очередным снегопадом, разведчики широким полукругом двигались на юго-восток, пробираясь к Уэлдонской железной дороге. Вскоре снег прекратился, небо очистилось. Они разъехались в разные стороны, чтобы увеличить радиус наблюдения, и каждый теперь оставался сам по себе, не видя других.
Чарльз быстро сориентировался и повернул Бедового влево, на север, собираясь осмотреть укрепления северян ниже Хэтчерс-Рана. Когда встало солнце, яркое и неожиданно теплое, несмотря на облака, он ехал через пустынный густой лес. Огромные снопы света падали между могучими стволами. Чарльз пустил Бедового шагом и представил, что въезжает в какой-то фантастический белый собор.
Иллюзию разрушил неожиданный крик, пронзивший утреннюю тишину еще спящего леса. Это был крик человека в агонии. Он доносился из густого тумана, висящего над землей прямо перед ним.
Чарльз чуть осадил Бедового, который тоже слышал крик и беспокойно рванулся вперед. Прислушавшись, Чарльз удивился – выстрелов почему-то не было. Он был уверен, что находится рядом, возможно, даже чуть восточнее последних окопов северян на левом фланге осадной линии. Нужно было выяснить, кто кричал – к первому голосу уже присоединился второй, – но делать это осторожно, чтобы не наткнуться на кавалерийский дозор.
Он тихо дал команду серому, и тот быстрым шагом двинулся вперед. Вскоре в туманной дымке показались оранжевые отсветы пожара. Их источник не был виден в ярких солнечных лучах, но Чарльз снова услышал пронзительный крик и громкий треск. Потянуло дымом.
Он повел Бедового медленнее и уже начал различать рядом с пылающим огнем – горело какое-то строение – всадников. Но кто же кричал?
Подъехав еще ближе и прячась за деревом, он насчитал десять мужчин. Часть из них была в светло-серой форме, остальные – в мундирах орехового цвета[62]62
Особый цвет формы, ставший одним из символов Конфедерации.
[Закрыть]. Еще увидел повозку с верхом из белой парусины и шесть человек в синей форме Союза рядом с ней, которые стояли под дулами пистолетов, карабинов и винтовок. Было очевидно, что группа побольше захватила менее многочисленную. Когда один из десяти повернул лошадь, чтобы поговорить с кем-то из своих, Чарльз неожиданно увидел, что под его расстегнутым офицерским кителем с золотыми галунами белеет колоратка с полотняными лентами протестантских священников.
Он сразу понял, что это та самая банда местных партизан, о которых он столько слышал.
За ними ярко пылал разрушенный фермерский дом. Чарльз решил, что лучше будет, если он выйдет к ним. Только сначала надо было снять синий мундир и спрятать его. Это заняло около минуты. Он еще стягивал один рукав, когда увидел, как всадник в колоратке взмахнул перчаткой. Двое из его людей спешились, подбежали к испуганным северянам, выдернули одного из группы и толкнули вперед стволами пистолетов:
– Давай-ка туда, янки. Как другие.
Пленник закричал еще до того, как его коснулось пламя. Один из партизан ударил его сзади плашмя штыком по ногам, и он упал лицом вниз прямо в огонь. Волосы его тут же загорелись, а потом он исчез в дыму.
Дрожа от бешенства и ругаясь на чем свет стоит, Чарльз погнал Бедового вперед.
– Я майор Мэйн из кавалерии Хэмптона! – закричал он, выехав из-за деревьев и взмахивая карабином. – Не стрелять!
Последние слова оказались весьма кстати, потому что при первых звуках его голоса партизаны развернулись и направили в его сторону оружие. Он остановился рядом с этими немытыми, грубыми людьми, на лицах которых была одна только ненависть. Бесчинства, учиняемые нерегулярными войсками, давно уже стали позором Конфедерации. Эту шайку возглавлял седеющий мерзавец в пасторской колоратке и украденном офицерском кителе с грязными галунами.
– Какого черта здесь происходит? – резко спросил Чарльз, хотя дым, крики и тошнотворный запах горящей плоти уже все объясняли.
– Полковник Фоллиуэлл, сэр, – сказал вожак. – А вот кто вы такой, чтобы задавать нам такие вопросы, да еще так надменно?
– Дьякон Фоллиуэлл, – сказал Чарльз; его подозрения подтвердились. – Я слышал о вас. Я уже сообщил вам, кто я. Майор Мэйн. Разведчик генерала Хэмптона.
– Можете это доказать? – резко бросил Фоллиуэлл.
– Достаточно моего слова. И этого. – Чарльз поднял карабин. – Кто эти пленные?
– Отряд вражеских инженеров, если верить их старшему офицеру. – (Чарльз не стал смотреть туда, куда показывал палец Дьякона.) – Мы на них наткнулись, когда они оскверняли эту брошенную собственность…
– Мы брали древесину, вот и все, ты, выродок! – закричал кто-то из пленных.
Один из партизан тут же ударил его прикладом винтовки. Янки упал на колени, ухватившись за спицу колеса фургона.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.