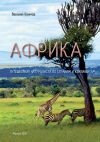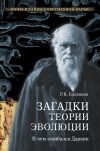Автор книги: Лев Кривицкий
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 172 (всего у книги 204 страниц)
«Крупнейший синтез биологии XX века, исторически трудно складывавшийся – современная синтетическая теория эволюции (в основном микроэволюции), – считает российский биолог Н. Печуркин, – также не дает строгого определения «прогресса» в направлении эволюции… Абсолютизация случайности плохо увязывается с очевидностью прогрессивного развития жизни от пробионта до высшего растения или животного, включая человека» (Печуркин Н.С. Энергия и жизнь – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1988 – 190 с., с. 5, 166).
Большинство сторонников СТЭ видит абсолютизацию случайности и отсутствие обоснованных представлений о механизме и источниках исторической необходимости прогрессивной составляющей эволюционных процессов только в сальтационистских теориях, с которыми они полемизируют, не замечая такой абсолютизации в самой СТЭ, пытаясь построить такую необходимость на отборе и отрывая его тем самым от внутренних побудительных мотивов эволюционных преобразований.
Л. Давиташвили видит основной недостаток СТЭ в игнорировании явлений массовой направленной изменчивости организмов и форм их строения под действием факторов среды, о чем в натуралистической биологии накоплено колоссальное количество фактов. «Эти факты, – считает Давиташвили, – тем более важны для эволюционного учения, что без признания такой направленной однозначной изменчивости одновременно более или менее значительного числа особей данного вида трудно надеяться объяснить видообразование путем естественного отбора» (Давиташвили Л.Ш. Эволюционное учение, т.1. – Тбилиси: Мецнпереба, 1977 – 477 с., с. 13–14).
Давиташвили называет представителей СТЭ постнеодарвинистами, поскольку, по его мнению, они в своих теоретических построениях слишком далеко ушли от главных достижений классического дарвинизма. Он признает, что постнеодарвинисты сделали, конечно, немало для освещения проблем биологической эволюции, но отказывается признать СТЭ полноценным эволюционным учением, базирующимся на современном уровне достижений биологической науки (Там же, с. 14).
Давиташвили отмечает, что редукционистские претензии молекулярной биологии на исчерпывающее объяснение эволюционных процессов породили разрыв между биологией молекулярной и биологией организмальной. Эти чрезмерные претензии многих теоретикой, базирующихся на данных молекулярной биологии и генетики, зашли так далеко, что некоторые поборники таких теорий считают излишними дальнейшие усилия биологов по изучению живых организмов как форм протекания эволюционных процессов и полагают, что все тайны развития живой «природы могут быть открыты молекулярной биологией без всякого участия биологических дисциплин» (Там же, с. 50).
Термин «организмальная биология», применяемый Давиташвили, конечно, не вполне удачен, поскольку натуралистическая биология изучает не только организмы, но и популяции, и виды, и надвидовые таксоны. Давиташвили призывает к взаимно полезному компромиссу между представителями молекулярной и организмальной биологии. Первые должны умерить свои претензии на объяснение эволюционных процессов, а вторые – «прийти в себя от оглушения, в которое их повергли успехи молекулярной биологии» (Там же, с. 51).
Однако эти призывы как раньше, так и теперь, содержат в себе лишь благие пожелания, пока не найдено объединяющее начало между двумя обособившимися отраслями биологического знания. Это объединяющее начало, по нашему убеждению, заключается в исследовании биологической работы целостных организмов и направляющих эту работу мобилизационных структур.
В статье Н. Мещеряковой содержится разносторонняя критика притязаний СТЭ с философско-методологических позиций (Мещерякова Н.А. СТЭ и номогенез: логические возможности и эволюционистские притязания – В сб.: Методология биологии: новые идеи (синергетика, семиотика, коэволюция) – М.: Эдиториал УРСС, 2001 – 264 с., с. 131–150).
Автор статьи отмечает, что СТЭ претендует на статус всеобщей теории эволюции, ее основополагающей парадигмы. Реализуются же эти притязания через редукционизм, сведение источников многообразия живого к физико-химическим процессам, происходящим в молекулах нуклеиновых кислот. Мещерякова подчеркивает, что редукционистская позиция СТЭ является, по существу, философской. Она соответствует критериям научности, выработанным позитивистской методологией науки.
«Обретя СТЭ, – пишет Н. Мещерякова, – биолог решил, что он наконец-то извабился от нестрогих, принципиально нематематизированных «качественных» понятий и определений; он осознал себя причастным к естественнонаучному процессу, идеалы которого вот уже столько столетий задает физика, ощутил завораживающую красоту формул, позволил себе «подержать в руках» эволюционный процесс (пробирка с мушками дрозофилы оказалась для него равной по своей «эволюционной весомости» всем водорослям, динозаврам и обезьянам вместе взятым). Надо ли после этого объяснять, почему СТЭ на многие десятилетия затмила собой все другие эволюционные направления? СТЭ сделала все возможное, чтобы эволюционная теория стала теорией по меркам научности, рожденным в естествознании на основе позитивистской методологии» (Там же, с. 132–133).
С мировоззренческой точки зрения подобная методологическая ориентация напоминает философию древнегреческих атомистов, которые объясняли все качественное многообразие мира комбинациями бескачественных структурных компонентов. По мнению Мещеряковой, СТЭ открыла некоторые аспекты формировании эволюционного материала, но не самой эволюции.
«Этот материал, – замечает она, – можно действительно получить в пробирке, пересчитать все щетинки и полосочки, вычислить распределение частот, построить математические модели популяционных процессов и т. д. И это все очень важно, необходимо и интересно, но вместе с тем (что самое существенное) это есть теоретическое открытие лишь одного эволюционного аспекта, одной эволюционной меры, а не эволюции в целом, эволюции как таковой» (Там же, с. 133).
Неудачу в раскрытии глубинных механизмов эволюции Н. Мещерякова связывает с тем, что в основу теории эволюции положен малопривлекательный эволюционный идеал. Этот идеал связан с представлением о том, что решающие эволюционные события происходят не в целостных организмах, а в генах. Соответственно К. Уорддингтон, критикуя СТЭ, определяет ее идеал как «мешок с яйцами и спермой», а Л. Блюменфельд усматривает в ней стремление свести всю эволюцию бесконечно многообразного мира жизни к приспособлениям, при помощи которых яйцо производит яйцо (Там же, с. 133, 135).
Мещерякова признает, что СТЭ – прекрасная теория, созданная столь же прекрасными учеными. «Но это теория не эволюции, являющейся процессом формообразования, рождения и становления биологических качеств, а теория рождения материала эволюции, субстрата всех и всяческих эволюционных изменений, самого по себе лишенного качественной определенности, восходящей к многообразию биологических форм… Не зная качества, СТЭ знает только одну форму адаптации – плодовитость и самый отбор для нее есть не более чем дифференциальное размножение. И все это правильно и нужно, но лишь до тех пор, пока правильно определена мера эволюционистских притязаний» (Там же, с. 138).
Накопившаяся «критическая масса» аргументов против неодарвинизма требует самой решительной ревизии его основ.
27.2. Критика СТЭ и эволюция не по ДарвинуНарастание критики неодарвинистской модели СТЭ в современной эволюционной биологии с самых различных позиций связано со становлением определённого плюрализма теоретических моделей и подходов, многие из которых противопоставлены не только неодарвинизму, но и дарвинизму в целом, а их создатели позиционируют себя в качестве сторонников недарвиновских теорий эволюции. Нередко в этих условиях попытки нахождения объяснений ряда эволюционных процессов не по Дарвину перерастают в радикальный антидарвинизм. Между тем история дарвинизма за более чем 150 лет его существования со всей ясностью показывает, что многочисленные попытки его опровержения были полезны науке только тем, что помогали его развитию и совершенствованию как наиболее доказательной и универсальной теории биологической эволюции.
В России наиболее обстоятельный и систематический обзор недарвинистских моделей эволюции с позиций своеобразного познавательного плюрализма выполнил В.Назаров (Назаров В.И. Эволюция не по Дарвину: Смена эволюционной модели – М.: Изд-во ЛКИ, 2007 – 520с.). Его капитальная книга, содержащая острую критику основ СТЭ, посвящена в первую очередь анализу достоинств и недостатков многообразных попыток моделирования эволюции «не по Дарвину», которые обозначают, как он полагает, смену эволюционной модели в биологии.
В.Назаров последовательно рассматривает содержание сальтационистских моделей, теории нейтральности, теории прерывистого равновесия, концепций, связанных с горизонтальным переносом генов, неоламаркистских сценариев эволюции и т. д. Во всех этих теоретических построениях имеются расхождения не только с СТЭ, но и с представлениями классического дарвинизма. Эти расхождения имеют совершенно различный характер и различаются по степени. Все они в различной степени критикуют теорию отбора, выражают сомнения в эффективности отбора как фактора эволюции, но не могут обойтись без отбора для обоснования собственных взглядов на эволюцию.
Все конкурирующие с СТЭ теоретические модели, кроме ламаркистских, строятся на основе принятия ещё более радикальных геноцентрических объяснений эволюционных процессов, то есть на ещё более полном игнорировании эволюционной работы, чем справедливо критикуемая ими неодарвинистская модель. В результате в эволюционной биологии сложилась парадоксальная ситуация. Положения классического дарвинизма защищают в основном сторонники неодарвинизма, которые придерживаются постулатов постепенно все более устаревающей СТЭ. Критика же со стороны их оппонентов убедительно вскрывает те искажения классического дарвинизма, которые неодарвинисты допустили при создании СТЭ.
Если исходить из поверхностного представления о ситуации, сложившейся в эволюционной биологии, можно прийти к выводу, что дарвинизм устарел двояко – и в качестве современного неодарвинизма, и в качестве классического дарвинизма. Отсюда и берёт начало представление об устарелости дарвинизма, которое по своей сути является чисто мифологическим представлением, мифом, отражающим лишь кризисное состояние современной эволюционной биологии.
Модернизация дарвинизма, проведенная СТЭ в определённый период развития науки, в XX веке была полезной, но в целом неудовлетворительной. На эту неудовлетворительность фактически и указывают её критики, в том числе и В.Назаров.
Прежде всего, Назаров, как и многие другие авторы, отмечает узость и ограниченность физикалистской, редукционистской методологии, положенной в основание СТЭ и не допускающей учёта специфичности биологического знания. Правда, Назаров умалчивает о том, что «недарвиновские» теории страдают этим ещё в большей степени.
Совершенно справедливо В.Назаров критикует застылость и догматизм апологетов СТЭ, нетерпимость большинства из них к критике и восприятию новых идей и открытий. «Особенно острый дефицит критической рефлексии, – пишет он, – обнаруживается у столпов и апологетов СТЭ. Это видно хотя бы из того, что они обычно апеллируют к попперовскому приёму опровержения не для того, чтобы подвергнуть анализу собственную позицию, как это ещё до Поппера делал Дарвин, а лишь для дискредитации оппонентов… Апологеты СТЭ чужды самокритике и при этом продолжают удерживать позиции в научно-образовательной сфере» (Там же, с.86).
Последнее, однако, связано не только с недостатком критического мышления у сторонников СТЭ, но и со слабостью аргументации их оппонентов, создающих «недарвиновские» модели эволюции, опираясь на весьма шаткие основания при редукционистских и геноцентрических объяснениях крупных эволюционных изменений. Они ищут оснований для своих далеко идущих выводов в новейших открытиях молекулярной генетики, что, безусловно, даёт им определённое преимущество перед СТЭ, застывшей на былых достижениях популяционной генетики.
Но использования ими новейших открытий недостаточно для обоснования радикальных мутационистских и геноцентрических взглядов на эволюцию, в которых они пошли ещё дальше СТЭ и которые ещё более примитивны с философско-методологической точки зрения.
Недаром Назаров совершенно справедливо отмечает, что «сложившаяся ситуация привела к резкому отставанию философских и методологических оснований современного эволюционизма от его эмпирической базы» и что «фактически они предстают как реликт старой эволюционной парадигмы, разрушенной новыми фактами, но ещё удерживающейся на плаву в силу инерции мышления» (Там же). Но эти слова в равной степени применимы ко всем геноцентристско-мутационистским моделям эволюции и совершенно не относятся к дарвиновскому учению.
Великолепно вскрывает Назаров искажения дарвинизма, принятые за основу в СТЭ и фактически тоже превратившие её в своего рода «недарвиновскую» теорию эволюции. В сущности, дарвиновское учение было принято создателями СТЭ в весьма специфическом варианте на основе сформировавшегося в XX веке геноцентрического и мутационистского способа теоретического мышления. Но очевидна их громадная заслуга в защите и развитии дарвинизма на основе новейших открытий генетики первой половины XX века и вплоть до начала 70-х годов этого века.
Фактически они спасли дарвинизм от радикального мутационизма, господствовавшего в начале XX века и вновь претендующего на господство в начале XXI столетия. Они были действительно великими учеными и сделали совершенно основательные выводы из того уровня знаний, которые имелись в их распоряжении на протяжении их жизни. Не их вина, а их беда, что тот уровень знаний приводил к искажению и примитивизации многих идей классического дарвинизма, вследствие чего они оказались в ряде отношений не впереди, а позади теории Дарвина. На это обстоятельство и указывает В.Назаров.
«По сравнению с теорией Дарвина, – констатирует он, – СТЭ оказалась более узким синтезом. В нем не нашлось места для сравнительной анатомии, эмбриологии, макросистематики, науки о поведении и экологии. Он не проявил интереса к процессам осуществления наследственности в индивидуальном развитии. Зато в СТЭ сочли возможным включить явления преадаптации, генетического дрейфа, ненаследственной изменчивости, чуждые её логической структуре» (Там же, с.86).
Геноцентрическая ориентация СТЭ привела к искажению ряда фундаментальных идей классического дарвинизма.
«Некоторые положения Дарвина, – совершенно правильно утверждает далее В.Назаров, – оказались искажёнными или вообще не получили отражения в новом синтезе. Так, например, в него не вошли организмоцентрические (типологические) аспекты эволюции, случаи формообразования без отбора, представления о соотношении индивидуального и исторического развития и, разумеется, допускавшееся Дарвином наследование приобретённых признаков. Важнейший элемент дарвиновской теории – борьба за существование – оказался поглощённым дифференциальной плодовитостью. Все это преподносилось как освобождение дарвинизма от ошибочных или слабых сторон. Таким образом, характерные для теории Дарвина логическая последовательность и взаимосвязь постулатов в СТЭ были нарушены, и вся теория оказалась лишённой стройности и целостности классического дарвинизма. Они были принесены в жертву намеренному стремлению к формализации и аксиоматизации описания процесса эволюции на основе принятия односторонней генетико-популяционной модели» (Там же, с. 86–87).
Итак, В.Назаров блестяще вскрывает следующие коренные недостатки СТЭ: физикалистский редукционизм, приводящий к отрыву от специфики биологического знания, догматизм, выражающийся в попытках подавления любых альтернативных моделей и неприятии нового, и деформация непреходящих достижений классического дарвинизма.
К ним примыкает застылость на прошлых достижениях популяционной генетики, почти полное игнорирование и исключение из числа ведущих факторов эволюции всех форм активности организмов и т. д. Кроме того, вслед за А.Любищевым В.Назаров отмечает в качестве серьёзных недостатков СТЭ некритическое экстраполирование выводов, справедливых на уровне наследственной изменчивости, на все уровни развития жизни, ограничение ведущих факторов эволюции только отбором, игнорирование огромной массы «неудобных» фактов, устранение типологического мышления и связанного с ним целого комплекса проблем и дисциплин (Там же, с. 87–88).
Как показывает В.Назаров, создатели СТЭ сами столкнулись с её недостаточностью для объяснения эволюционных процессов. В 1957 г. Дж. Холдейн выдвинул так называемую дилемму Холдейна, доказав при помощи расчетов, что в популяции не может заменяться более 12 генов аллелями, несущими селективные преимущества, поскольку в противном случае такая популяция полностью утратит репродуктивную способность.
А поскольку у каждой особи тысячи аллелей, для возникновения генетических различий между популяциями понадобилось бы столь огромное время, что оно несравнимо с тем, что наблюдается в природе (Там же, с.91). К тому же если бы эволюционные преобразования происходили так медленно, любая популяция успела бы вымереть раньше, чем произошло бы её преобразование в новый вид предлагаемым СТЭ путём.
В 1963 г. Э.Майр назвал рассмотрение популяции по аналогии с мешком с разноцветными бобами упрощённым теоретизированием, приводящим к ложным представлениям. В 1982 г. он выступил против сведения макроэволюции к изменению генных частот и отметил, что популяционная генетика, настаивающая именно на таком пути эволюционных преобразований, внесла лишь незначительный вклад в решение проблем макроэволюции (Там же).
Во второй половине 70-х годов XX века с резкой критикой основ СТЭ выступил ученик Ф.Добжанского видный американский генетик Ричард Левонтин. В своей книге «Генетические основы эволюции» он показал несостоятельность именно генетических оснований СТЭ. Популяционная генетика, на которую опирается СТЭ, как отмечает Левонтин, оперирует упрощёнными моделями, которые предполагают мутационные изменения отдельных локусов отдельных хромосом.
На этой шаткой генетической базе СТЭ выстраивает модель микроэволюции и далеко идущие выводы о её «перетекании» в макроэволюцию. Между тем все локусы одной хромосомы тесно связаны между собой, а хромосомы интегрированы в целостном генотипе. Поэтому объектом исследования популяционной генетики должен был бы стать генотип как целостная генетическая система.
Отбор генотипов происходит через фенотипы особей, конкретных организмов, и отдельные локусы хромосом изолированно отбираться не могут. Но исследование генотипов является слишком трудной задачей ввиду их чрезвычайной сложности. Вследствие этого рушится всё здание СТЭ, выстроенное на фундаменте популяционной генетики (Там же, с.93. См. также: Левонтин Р. Генетические основы эволюции – М.: Мир, 1978).
Безграничной самонадеянности геноцентрически мыслящих теоретиков эволюции Левонтин противопоставляет генетически обоснованный тезис: «мы буквально ничего не знаем о тех генетических изменениях, которые происходят при формировании видов». Но мы этого никогда и не узнаем, если будем и дальше запрягать телегу впереди лошади и воображать, будто генетические изменения формируют эволюцию организмов, а не эволюция организмов формирует генетические изменения.
В.Назаров отмечает, что «СТЭ неспособна дать объяснение того, как происходит закрепление (наследственная фиксация) длительных модификаций» (Там же, с.100). А это ведь едва ли не главный, по нашему мнению, вопрос теории эволюции. Более того, СТЭ не только неспособна дать научно обоснованный ответ на этот судьбоносный вопрос, она и не пытается это делать.
В.Назаров приводит по этому поводу весьма важное высказывание выдающегося французского зоолога Пьера-Поля Грассе, который считал, что СТЭ не охватывает самые существенные стороны эволюции, связанные с приобретением эволюционных новшеств. Такие новшества, согласно Грассе, зависят от передачи информации и создания новых генов, а не от мутаций, производящих исключительно одни аллели (Там же).
Дав столь обширную и разностороннюю критику слабостей и догматических представлений СТЭ, В.Назаров в итоге приходит, к сожалению, к совершенно неверному выводу. «Вывод очевиден, – утверждает он, – отбор является не мотором, а тормозом эволюции» (Там же, с.101).
Отбор может ускорять и замедлять эволюцию, может жёстко стабилизировать её. Но во всех этих случаях он является мотором, приводимым в действие эволюционной работой. И когда кажется, что он тормозит эволюцию, он тоже действует как мотор, только в обратном направлении. Происходит это потому, что отбор и эволюционная работа мобилизационных структур суть не какие-то частные детали или колёсики и винтики эволюционных механизмов. Они суть неотъемлемые свойства эволюции, её атрибуты.
Они двигают эволюцию в том или ином направлении, могут замедлять её или поворачивать вспять, создавать видимость её полной остановки. Но эволюция не прекращается нигде и не останавливается ни на миг, поскольку она всеобща, универсальна, объемлет Вселенную, и всё во Вселенной есть произведения эволюции, возникшие посредством эволюционной работы и отбора.
Ядром дарвинизма была и остаётся теория отбора. Неодарвинисты ограничили эту теорию отбором генетически предопределённых вариаций. В свою очередь антидарвинисты требуют доказательств эффективности отбора, а неодарвинисты в ответ предлагают доказательства, которые доказывают лишь преимущественное истребление менее защищённых, то есть генетически менее удачливых особей. Но пусть укажут, в какой сфере действительности отбор не является фундаментальным условием эволюции, её постоянно действующим фактором и источником направленных и скоординированных со средой изменений.
В необъятном космосе, в человеческой экономике, политике, культуре, образовании, науке отбор способствует выживанию наиболее приспособленных к сложившейся в данный момент среде, а это значит – наиболее мобилизованных и выполняющих при данных условиях наиболее эффективную эволюционную работу.
Ни в огромной Вселенной, ни на крохотной, но такой разнообразной и продвинутой в эволюции планете Земля нет и никогда не бывало эволюции без отбора. Отказаться от теории отбора – значит, признать мифологические, чудотворные источники эволюции вне зависимости от того, представляются ли эти источники в виде фантастически сбалансированных мутаций или в виде проявлений воли сверхъестественных существ.
Критика синтетической теории эволюции вполне убедительна, когда она выступает как критика геноцентризма и мутационизма, а не как критика дарвинизма ради демонстрации эфемерных преимуществ ещё более геноцентрических и случайностных гипотетических моделей.
В этом отношении весьма впечатляюща перемена позиции замечательного российского биолога Б.Медникова, убеждённого дарвиниста, который ранее был горячим защитником постулатов СТЭ, а в 1987 г. признал, что видообразование невозможно свести к постепенному вытеснению одних аллелей другими как в результате отбора, так и в результате случайного генетического дрейфа (Там же, с.95).
Мы пользуемся информацией из книги В.Назарова не для того, чтобы пересказывать её содержание, а потому, что в ней в наиболее сконцентрированном виде пересказаны наиболее важные идеи критиков СТЭ и сторонников «недарвиновских» концепций эволюции.
В.Назаров рассматривает СТЭ как устаревшую теорию, базировавшуюся на достижениях «классической» генетики и не выдержавшую проверки на основе результатов генетики современной. Он напоминает, что XX век часто и вполне справедливо называют веком генетики. Мы же добавим к этому, что «век генетики» следует рассматривать в контексте других наиболее существенных особенностей XX века.
Это был век катаклизмов, век двух мировых войн, по своей ожесточённости и бесчеловечности не имеющих аналогов в человеческой истории. Век тоталитаризма, милитаризма, век бурного развития техники и оттеснения на задний план гуманитарной культуры, век массификации, век угнетения человеческой цивилизацией экологической среды и всего живого на Земле, век раскола человечества на враждующие «лагеря».
И в то же время век крупнейших достижений в науке, технике, производстве, экономической сфере, создавших предпосылки для материального благосостояния больших масс людей. Век массовых коммуникаций, компьютеров, Интернета, который продолжается и сейчас, продолжится в будущем. Неклассическая наука XX века сумела выйти за пределы непосредственных человеческих познавательных способностей, к опосредованному познанию объектов и миров, не отражаемых естественным устройством человеческих органов восприятия. Но при этом она утратила непосредственный контекст с познаваемой реальностью. Всё это оказало влияние и на «век генетики».
«Будучи ровесницей XX столетия, – отмечает В.Назаров, – генетика с самого начала заявила о себе как наука, объясняющая сохранение устойчивости видоспецифичности биологической организации и её строгое воспроизведение из поколения в поколение» (Там же, с.395).
Тем самым генетика ответила на запросы биологии XIX века, которая, как неоднократно отмечал Дарвин, была в полном неведении о законах, управляющих наследственностью, что, соответственно, определяло и ограниченность классического эволюционизма. Более того, «классическая» генетика даже создала видимость достаточно полного знания этих законов.
«Она, – продолжает В.Назаров, – также сумела легко убедить своих современников, что индивидуальное развитие есть не что иное, как процесс осуществления наследственности, содержащейся в генах, а филогенез – результат её изменения между поколениями. Благодаря открытию материальных носителей наследственности описывающие её понятия обрели в сознании биологов значение раз и навсегда данных устоев, по точности мало уступающих математическим. Это относится к менделизму, мутационной теории и хромосомной теории наследственности, составившим фундамент классической генетики» (Там же).
Многое из этих «устоев» заложено и в фундамент современной генетики. Открытие материальных носителей наследственности стало одним из тех эпохальных открытий, которые позволили значительно расширить и углубить научное мировоззрение, стали одним из его мощных и непоколебимых устоев. Однако «классическая» генетика при всех её достижениях была типично «неклассической» наукой XX века, то есть наукой, которая строила свои обобщения на экспериментах с особо сложными объектами.
Сложность взаимосвязей таких объектов не могла быть отслежена наблюдением, а наблюдению посредством естественного способа восприятия были доступны лишь простые, элементарные взаимосвязи, к которым и сводились модели поведения этих объектов. Результатом такого способа познания и явилось «лёгкое» убеждение, или, точнее, упрощённое представление о том, что индивидуальное развитие организмов сводится к прямой и непосредственной реализации генетических программ, содержащихся в ДНК клеточных ядер. Это представление воспроизводит давно опровергнутый наукой преформизм и давно преодолённый в философии механистический фатализм, подобный убеждению в том, что в протопланетной туманности, из которой сформировалась Земля, уже содержалась программа для образования жизни и человечества.
Вполне естественно, что такое представление, укоренившееся в самых основаниях «классической» генетики, не допускало существенного участия в развитии организмов осуществляемой ими в процессах этого развития биологической работы. Признавалась лишь возможность реакции генов на изменение среды в рамках генетически определённых норм реакции.
На этой почве в «классической» генетике и строящейся на ней неклассической теории эволюции господствующее положение занимают геноцентризм и тесно связанный с ним мутационизм. Геноцентризм заключается в представлении о центральном, ведущем, господствующем положении генетических структур в индивидуальном развитии и в исторической эволюции организмов, об их роли первоисточника всех эволюционно значимых изменений организмов.
С открытием мутаций как специфических, весьма эффектных для наблюдателей и наследственно закреплённых в определённом числе поколений генотипов и соответствующих им фенотипов, геноцентризм воплотился в мутационизме – представлении о том, что именно мутации и их комбинирование при оплодотворении половых клеток являются первоисточниками любых эволюционных новшеств.
В начале XX века основоположник мутационизма Гуго де Фриз «опроверг» дарвиновскую теорию отбора, убедив научное сообщество в том, что видообразование не нуждается ни в отборе, ни в борьбе за существование, а виды образуются в краткие периоды широкого распространения мутагенеза путём мгновенных мутационных превращений.
Осознание ошибочности теории де Фриза и других ранних мутационистов привело к реабилитации дарвиновской теории отбора, но уже в мутировавшей форме, в сочетании с последовательным геноцентризмом и мутационизмом, которые воспринимались как реализация мечты Дарвина об открытии законов наследственности. Формирование СТЭ шло по линии популяционной генетики, собственно, это и была популяционная генетика, применённая к другим сферам биологии. Особенно укрепились геноцентризм и мутационизм в генетике и теории эволюции после открытия двойной спирали ДНК.
«После открытия двойной спирали ДНК (1953 г.), – пишет В.Назаров, – мутацию стали трактовать в духе моргановской хромосомной теории: в ней видели изменение в тексте ДНК – в структуре нуклеиновой кислоты в пределах локуса – или в строении хромосом. Мутации стали подразделять на генные (точковые), хромосомные и геномные. Казалось, к этим трем типам мутаций сводится всякое наследственное изменение. Благодаря такому ограничению и стала возможной разработка генетико-популяционной модели эволюции в СТЭ» (Там же).
Геноцентризм и мутационизм получили статус прочно обоснованного многочисленными экспериментами достижения науки о наследственности. Генетика этого периода слилась с геноцентризмом и мутационизмом как своей научно доказанной основой. В свою очередь геноцентрическо-мутационистская основа генетики слилась с такой же основой теории эволюции, они образовали единое и неразрывное целое.
Даже попытки построения альтернативных СТЭ моделей эволюции в своём подавляющем большинстве строились на основе геноцентризма и мутационизма (и продолжают строиться до сих пор). Были и тогда исследователи, которые протестовали против того, чтобы видеть в ошибках и сбоях генетического аппарата, в особенности в индуцируемых мутациях, получаемых в лабораториях, источник эволюционных преобразований.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.