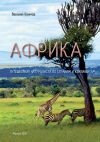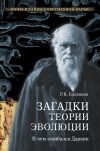Автор книги: Лев Кривицкий
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 95 (всего у книги 204 страниц)
Развенчав научность и удалив её из культуры, Бердяев переходит к развенчанию самой науки, ценность и нужность человеку которой он ранее признал. Он характеризует сущность науки как реакцию «самосохранения человека, потерянного в тёмном лесу мировой жизни», как средство для того, чтобы «познавательно ориентироваться в мировой данности», как «послушание необходимости», а в конечном счёте – как приспособление к падшему миру (Там же,с. 266). Поэтому наука, по Бердяеву, «связана с грехом», она «никогда не была и не может быть освобождением человеческого духа», она «не прозревает свободы в мире», она есть «не творчество, а послушание» (Там же, с. 267).
Отрицая творческую природу науки, Бердяев отрывает её от культуры, рассматривает как послушание необходимости, способствующее преобразованию необходимости. По Бердяеву, наука «не прозревает свободы в мире». На самом деле она реально расширяет не выдуманную, основанную на подчинении религиозным догмам, а действительную свободу в мире, власть человека над необходимостью. Свобода вне необходимости, которую провозглашает Бердяев, есть свобода от действительности. Творчество, оторванное от действительности, сводится к сотворению миражей. Свобода, обеспечиваемая научным освоением мира, есть не подчинение, а преобразование необходимости.
Характеризуя науку, Бердяев, констатирует разрыв её на отдельные науки, а её истину – на отдельные истины. Такое положение науки кажется ему вечным, что позволяет придать видимость основательности тезису о неспособности науки проникать в глубинные тайны бытия. Наука в целом, по Бердяеву – это всего лишь «усовершенствованное орудие приспособления», ограниченное этим приспособлением. Её природа носит прагматический, «жизненно-корыстный, биологический характер» (Там же, с. 266). И далее: «наука не знает последних тайн, потому что наука – безопасное познание» (Там же, с. 267). Непонятно, что здесь имел в виду Бердяев. Вряд ли ему не было известно, сколько учёных погибло, добывая и отстаивая научные истины, чтобы последующие поколения могли использовать их прагматически и даже корыстно-эгоистически. Сколько учёных погибло на кострах инквизиции, под пытками и в ходе погромов со стороны религиозных фанатиков, сколько ушло из жизни в ходе опасных экспериментов? Кто даст ответ? Такой статистики не существует. И как всё-таки легко религиозная философия допускает кощунства по отношению к подлинно святым мученикам науки!
Отрицая науку как путь к познанию истины, Бердяев утверждает, что приспособительный характер имеет не только научный опыт, но и дискурсивное мышление, которым пользуется наука для получения выводов, и сама логика науки есть не более, чем орудие приспособления. (Там же, с. 266). Отсюда делается вывод, что философия как познание мудрое выше познания логического, что она способна выходить за пределы мировой данности и не обязана ограничивать себя законами логики. Но игнорирование логики ведёт, как известно, не к мудрости, а к софистике. Стремясь подняться над логикой, Бердяев в своих характеристиках взаимоотношения философии и науки, как мы видели, нанизывает один на другой целый ряд софистических аргументов. И в результате получается всё наоборот. Учёных и философов, отстаивавших свободу от религиозных канонов, возможность развивать научное мировоззрение своего времени он воспринимает как невольников необходимости. Философию же, «освободившуюся» от научности, находящуюся в плену у религиозных догм, он считает подлинно свободной.
Отрицая познавательные возможности научной философии, Бердяев определяет философию как искусство, особое искусство познания. Вслед за Бергсоном он утверждает, что философия должна руководствоваться не логикой, а творческой интуицией, прорывающей рамки необходимости (Там же, с. 269, 277). Он противопоставляет эту интуицию разуму, который, по его мнению, есть познавательное средство приспособления к необходимости. Но о каком познании может идти речь, когда интуиция отрывается от разума, противостоит ему? Такая интуиция есть не более чем произвол индивидуального сознания, способ ухода от действительности, погружения в фантазию. Это ли удел философии?
Отвергая определение истины как знания, соответствующего действительности, восходящего ещё к Аристотелю, Бердяев противопоставляет этому определению творческий, конструктивный характер истины. Он отрицает соответствие между этими двумя наиболее существенными определениями истины. «Истина, – пишет Бердяев, – не есть дублирование, повторение бытия в познающем. Истина есть осмысливание и освобождение бытия, она предполагает творческий акт познающего в бытии. Истина есть смысл… Отрицать смысл в мире значит отрицать истину, признавать лишь тьму. Истина делает нас свободными» (Там же, с. 281). Истина действительно не есть плоское дублирование, «фотографирование» действительности. Она возникает в процессе творческого, многоуровнего преобразования материала познания, предполагает творческий акт познающих и человеческое, мировоззренческое осмысление познанного, что и предполагает глубинную связь науки с научно ориентированной философией, а в конечном счёте – и с научно ориентированной верой.
У Бердяева же наоборот. Истина есть несоответствие конкретной действительности, в которой живёт человек. Она есть освобождение от действительности ради бытия «не от мира сего». В этом и состоит, по Бердяеву, смысл творчества, смысл бытия, смысл существования человека. Но познавать смысл бытия, игнорируя материальный мир, в котором живёт человек, подвергая этот мир безоговорочному осуждению – это чистейшая бессмыслица. Бессмыслица искать иной, совершенный мир за облаками или творить какой-то абсолютно новый мир в собственном воображении. Тем не менее в главном Бердяев совершенно прав: смысл творчества заключается в совершенствовании мира человеком через самоусовершенствование самого человека.
Бердяев стремится с религиозных позиций утвердить творческие основы человеческой жизни. Но с религиозных позиций они не утверждаемы. Здесь нужна истинная, а не мифологическая вера. А это вера научная, которая вытекает из научного мировоззрения, является его продолжением в «потусторонний» мир творческой эволюции человека. Пытаясь «втиснуть» творческое развитие человека в тесные рамки религиозно-мифологического мировоззрения, Бердяев приходит к выводам, диаметрально противоположным истинному положению вещей. Получаются тезисы-наоборот.
На исходе Средневековья мировая философия потратила неимоверные усилия, чтобы избавиться от давления религиозного догматизма, отстоять свободу философского творчества. По Бердяеву: «творческая философия – догматическая философия, а не критическая и не скептическая» (Там же, с. 283). Догматизм есть подавление творчества, насилие над духом, стремление посадить его в клетку неизменяемых положений, берущих начало не из реальной жизни, а из мифологических представлений о потусторонних силах. У Бердяева наоборот: «Догматизм есть цельность духа, творческая его уверенность в своих силах» (Там же). Творческий дух неизбежно испытывает муки творчества, проходит через плотный строй сомнений, критических размышлений, возражений самому себе. По Бердяеву же «Рефлексия и сомнение лишают философию творчески-активного характера, делают её пассивной» (Там же, с. 282). Философия, как и наука, с самого своего возникновения критична и находится в постоянном поиске доказательств. Бердяев же полагает: «Доказательства нужны лишь для тех, которые любят разное, у кого разные интуиции. Доказывают лишь врагам любимой истины, а не друзьям» (Там же, с. 286).
Любить можно всё что угодно и кого угодно. Любовь зла, полюбишь и козла. Любовь – чувство субъективное, а истина объективна и потому требует доказательств. Истина – не блюдо, которым угощают друзей. Это общечеловеческая ценность, которая ценна не красотами творческого самовыражения своих создателей, а объективной связью того, что мы думает и того, что есть на свете. Объективность истины требует разрыва с мифологическим мышлением, преодоления его. По Бердяеву же «философия должна восстановить изначальную правду мифологичности человеческого сознания… мир постижим только мифологически» (Там же, с. 290).
Следуя мифологическому постижению Космоса и человека, Бердяев провозглашает абсолютную независимость философской антропологии от научной, поскольку наука воспринимает человека как природный объект, а религиозно-мифологическая философия – как сверхприродный субъект (Там же, с. 298). В этом отношении весьма любопытно объяснение Бердяевым научной несостоятельности библейского креационизма. Согласно Бердяеву, божественное откровение, ниспосланное создателям библии, открыл им тайну происхождения мира и человека в рамках того, что люди той эпохи могли понять в силу ограниченности знаний о природе того времени. По мере развития научного знания, являющегося результатом изучения природы греховного мира, «гибнет лишь детская наука библии, наивная библейская астрономия, геология и биология, но остаётся в силе религиозная библейская истина о человеке» (Там же, с. 310). Разумеется, эта истина мифологична.
Бердяев отвергает критическую философию за отсутствие творческого подхода к постижению человека, но сам подвергает нигилистической критике любые учения о человеке. Он критикует всю мировую философию за следование научной антропологии. Он критикует гуманизм за обоготворение природного человека, за отсутствие постижения человека как образа и подобия Божьего. Он критикует государство, право, хозяйство и семью как формы послушания последствиям греха. Вся мировая культура, по его мнению, лишена настоящего творчества, поскольку не было ещё в мире религиозной эпохи творчества. Он критикует классику мировой культуры, называя классическое творчество болезнью, возведенной в норму. В мировой культуре, в процветании наук и искусств Бердяев находит слишком многое от необходимости, а не от свободы, от приспособления, а не от творчества. Он критикует церковь за отсутствие понимания значения религиозного творчества, критикует христианство за освящение покорности и страха перед Богом, ограничение религиозной жизни искупления греха. Он критикует католичество за канонизацию идей греха и искупления. Он критикует православие за цезарепапизм и создание идеологической опоры самодержавия. Критикует протестантизм за рационализацию религии и наукообразный подход к жизни духа. Критикует сектантство за порабощение духовной жизни верующих.
Ценность бердяевской критики состоит в том, что через неё просматривается тезис об устарелости всех форм религиозного мировоззрения, их зашоренности на давно отжившей системе человеческих отношений и недоступности творчеству. Однако новое религиозное сознание, которое отстаивает Бердяев, само остаётся в плену мифологических предрассудков и вследствие радикального отрицания истинности научно-эволюционного мировоззрения ни на волос не сдвигает решения проблемы воссоединения веры и знания. Такое воссоединение невозможно в рамках религиозной веры, базирующейся на мифологическом мышлении, на канонизированном незнании и непризнании всеобщности эволюции. В современном мире только научная, гуманистическая вера может способствовать решению этой проблемы, потому что она базируется на знании и сама эволюционирует соответственно развитию знания. Бердяев в какой-то мере своей критикой устоев традиционной веры и мечтаниями о новой вере, связанной с человеческим творчеством, свободой и совершенствованием человека, подходит к постановке вопросов, которые разрешимы только вне рамок религиозного сознания. Он справедливо критикует первые попытки создания научной веры в философии Л. Фейербаха и О. Конта, которые выродились в религиозное обожествление человечества.
В нынешнем XXI веке, наконец, настало время создания системы научной веры, основанной на общей теории эволюции и научно-эволюционном мировоззрении. И философские искания Бердяева, связанные со стремлением к насыщению веры творчеством, свободой и самоусовершенствованием человека, представляют на этом пути непреходящую ценность. К сожалению, это стремление связано не с созидательной эволюционной работой по решению реальных, конкретных жизненных проблем, которая и позволяет нечто усовершенствовать в этом мире, а с попытками отказаться от этого мира, отвергнуть всё в нём как не подлежащие усовершенствованию и вместо него построить неизвестно каким образом какой-то совершенно новый мир – космос вне материи.
Религиозная эпоха творчества, о наступлении которой пророчествует Бердяев – это эпоха не новой культуры, а именно сотворении нового мира. Об этой эпохе не сказано в божественном откровении, поскольку «если бы пути творчества были указаны в священном писании, творчество не было бы творчеством, а было бы послушанием» (Там же, с. 328). Человек сам должен вступить на путь творчества и раскрыть в себе образ Творца. Тем самым он становится способен «творить мир новый и небывалый, продолжать творение Божье» (Там же, с. 331). Поистине русская мысль начала XX столетия была одержима ниспровержением старого мира и построения на его обломках нового и небывалого. Как ни далеко отошёл Бердяев от русского варианта марксизма, он в порыве религиозного творчества опять-таки придаёт сакральное содержание призыву «Интернационала» – «мы наш, мы новый мир построим!».
Построение нового мира и у Бердяева предполагает формирование нового человека, человека, отринувшего блага земные и свободы буржуазные, взыскующего свободы не земной, а небесной. При всём этом витании в облаках в бердяевском варианте творения есть и рациональное зерно – сотворение более гуманного человеческого мира посредством не насилия, а творческого усовершенствования человека. Но путь к этому – не от мира сего. Построение совершенно нового богочеловеческого мира каким-то неземным, сверхъестественным, сверхмобилизованным творчеством, за которое ратует Бердяев, в сущности, так сродни коммунистической атеистической религии, которую он же неустанно критиковал, что совершенно уводит в сторону от подлинного предназначения человека как творца. Реалистическая, базирующаяся на знании, научно обоснованная вера связывает это предназначение с последовательным, эволюционным, исторически подготовленным совершенствованием окружающего мира постоянно совершенствующимся человеком. Не революционная ломка, а созидательная эволюционная работа является источником творческого преобразования мира человеком. Но прогресс человечности, достигаемый творчеством и культурой, зависит от общего прогресса цивилизации и не вытекает прямо и непосредственно из духовного творчества людей.
Бердяев же взыскует нового мира вне прогресса и вне цивилизации. Он надеется духовным творчеством создать новую землю и новое небо. Сам Бердяев характеризует осознание человеком в себе подобной творческой способности как «революционное сознание, к которому нельзя прийти ни логическим, ни эволюционным путём» (Там же, с. 342). Поэтому, по Бердяеву, «человек, осознавший себя творцом, всегда революционен по отношению к творчеству подзаконному, нормативному, культурно-дифференционному» (Там же, с. 343). Духовная революционность, по Бердяеву, так же пренебрегает законами и нормами права, морали и культуры, как и революционность политическая. Но творчество без норм и правил может породить только хаос, иллюзию свободы, которая в конечном счёте обращается в произвол, в волю бунта вместо свободы творчества. Столь радикально отвергая нормы в искусстве и культуре, Бердяев столь же радикально отвергает и классическое искусство, характеризуя его как болезнь, возведенную в норму (Там же, с. 347). Всякое великое творчество есть, по его мнению, проявление свободы от норм. Но это не так. Отклонение от норм, новаторство в искусстве и культуре связано с эволюцией норм, отказом от следования нормам, превратившимся в догматы.
Современное искусство (особенно авангардизм) возвело в норму отказ от норм классического искусства и даже от норм вообще. Но оно же выработало собственные нормы, основанные на поиске оригинальных, неповторимых решений, опосредованном подходе к воспринимаемым явлениям, создало собственную традицию, базирующуюся на искусственном способе восприятия явлений жизни. У Бердяева же крайний традиционализм сочетается со столь же крайним неприятием норм и традиций культуры, что также весьма характерно для российской ментальности его времени, да и для всего XX века в целом. И здесь же Бердяев выдвигает чрезвычайно важный и необычайно ценный тезис о необходимости созидания новой жизни путём претворения культуры в бытие (Там же, с. 346). В этом – вся гениальность философского творчества Бердяева. Посреди множества совершенно фантастических, оторванных от жизни утверждений, взглядов не от мира сего, вдруг вспыхивает Мысль о возможностях человеческого творчества, которая озаряет светом истины всё окружающее и выводит философское мышление из темноты религиозной утопии. Претворение культуры в бытие, насыщение культурой цивилизации, созидание насыщенного культурой социального мира, цивилизованное преобразование мира природного, духовное, культурное и творческое самоусовершенствование человека – всё это символы научной, эволюционной обоснованной веры, а не религиозно-мифологической утопии.
Для любой религиозной утопии, в том числе и «новой» бердяевской выражением её познавательного содержания является тезис Тертуллиана «верую, потому что нелепо». Нелепо верить в то, что мир создан за шесть дней, – это понимает и Бердяев. Но не менее нелепо (а может быть, и более абсурдно) верить в то, что всё существующее в материальном мире есть порождение греха, и можно при помощи религиозного творчества сотворить какой-то новый безгрешный мир. Таким творчеством ничего невозможно создать, кроме оторванных от жизни фантазий. Символом научной веры является тезис «верую, ибо разумно». Научная вера сегодня отказывается от прежней наивной веры в политический экономический и научно-технический прогресс, который может без участия человека, автоматически разрешить все человеческие проблемы. Материальный прогресс может лишь создать предпосылки для прогресса человека, который недостижим без духовного, культурно, гуманистически ориентированного творчества, без регулярного психофизического и культурного самосовершенствования и самопреобразования человека. В апологии творчества как предпосылки преобразования мира человеком и самого человека заключается сильная сторона философии Бердяева. Поэтому бердяевское свободомыслие может рассматриваться как одна из предпосылок эволюционного подхода к вере, даже несмотря на присущее ему категорическое отрицание научно-эволюционного мировоззрения.
К сожалению, бердяевское свободомыслие ограничено неистовой религиозностью, а подход к творчеству основан на вере в чудеса. Он даже пытается рационально обосновать эту веру. Он определяет «подлинное» творчество как теургию, «богодейство, совместное с Богом действие» (Там же, с. 354). Он понимает творчество как способность совместно с Богом творить богоподобное бытие. Всякий такой творческий акт он рассматривает как творение из ничего (Там же, с. 355). В этом заключается тайна бердяевской философии творчества. Если бы не вера в способность религиозного творчества создавать нечто из ничего, опираясь на творческую мощь Бога и получая, как выражается Бердяев, прибыль этой мощи человеческими усилиями, вся конструкция его философии рассыпалась бы в прах, а утверждения о способности духовного творчества создавать новый мир были бы совершенно непонятны, ибо здешнее, посюстороннее духовное творчество способно творить лишь идеальные продукты – мысли, идеи, проекты, фантазии, но не миры. А так всё становится на свои места: где присутствует чудо, там можно сотворить (или натворить) всё, что угодно. Можно даже создать Космос вне материи.
С этих позиций Бердяев критикует научный эволюционизм. «Материалистический эволюционизм, – пишет Бердяев, – допускает лишь перераспределение элементов замкнутой вселенной, но не допускает творчества… Механическая эволюция и творчество противоположны. В эволюции Дарвина и Спенсера действует сила консервативной инерции, а не сила творящая… В материалистической вселенной ничто не творится, всё лишь перераспределяется и переходит из одного состояния в другое. Закон сохранения энергии материализм понимает как отрицание творчества, как консерватизм бытия… Творчество есть прирост энергии не из другой энергии, а из ничего» (Там же, с 358–359).
Критика Бердяевым механистических оснований классического эволюционизма XIX века отчасти справедлива. Главный его недостаток заключался в том, что, признавая активность матери, он сводил её к механическим взаимодействиям и тем самым ограничивал эволюцию неживой материи механическим структурированием и механическим взаимодействием структур. Это касается главным образом попыток Спенсера создать обобщённую теорию эволюции, отталкиваясь от современной ему физики и биологической теории эволюции. Уязвимость спенсеровской теории эволюции для критики со стороны креационистских теорий божественного творчества как раз и заключалась в том, что в ней не было попыток создать представления о действующих уже на уровне неживой материи активных структурах, трансформирующих хаотическое движение в упорядоченное и тем самым создающих предпосылки для разнообразных эволюционных процессов. В результате активность трансформаций в природе изымалась креационистами из естественной эволюции и приписывалась Создателю, способному творить всё, что угодно из ничего. Однако закон сохранения энергии, доказанный на огромном научном материале несколькими поколениями выдающихся учёных, недвусмысленно демонстрировал принципиальную невозможность творения чего-либо из ничего.
Что касается дарвиновской теории эволюции, в ней активность живой природы выражается категорией «борьба за существование». В конце XIX – начале XX века психофизиологическими исследованиями было убедительно доказано, что способность к творчеству является исключительной особенностью человека в силу особого устройства его мозга. Творческая способность присуща только высокоорганизованной материи, в косной материи нет и не может быть никакого творчества. Но бердяеский креационизм очень легко справляется с этими затруднениями. Он и не ищет творчества в материи, он признаёт эволюцию материи. Материя, по Бердяеву, есть результат омертвения, отяжеления, материализации низших иерархических ступеней бытия от грехопадения человека и внесенного этим падением раздора и вражды, так что «принуждающаяся материальность бытия порождена самим человеком» (Там же, с. 374).
Движущей силой эволюции по Дарвину и Спенсеру Бердяев считает инерцию процесса такого греховного омертвления и отвердения бытия, лишения его творческой активности. Бердяев готов признать относительную истинность дарвинизма, «ибо в данном природном состоянии царит борьба за существование и естественный подбор приспособленных» (Там же, с. 364). Но подчинённость этим закономерностям есть результат падения человека как творческого субъекта. Таково, по Бердяеву, происхождение эволюционного порядка природы, основанного на принуждении, вражде и приспособлении.
Творчество выводит человека за рамки такого порядка природы, открывает возможность для преодоления естественной эволюции творческим развитием, обретения творческой свободы и выхода за рамки эволюционно обусловленной необходимости. Таков, по Бердяеву, совершенно рационально сформированный механизм перехода от естественной эволюции к сверхъестественному чудотворчеству, причём последнее получает вполне респектабельное название творческого развития. Опорочив таким образом естественную эволюцию, Бердяев в то же время предлагает внести принцип развития в божественную жизнь (Там же, с. 373). Этот тип развития имеет не эволюционный, а креационистский характер, он характеризуется как восьмой день творения – творения мира уже не самим Богом, а в творчестве человека с помощью Божьей. Творчеством без необходимости, без какой-либо детерминированности этот погрязший в грехе и вражде мир надо дематериализовать, или, как выражается Бердяев, расколдовать. Расколдовать мир от материальности, от заколдованности злобой, можно только любовью.
Этот сладковатый бред, мелодраматическое отношение к миру так импонирует той части российской интеллигенции, которая культивирует идеи российской исключительности, всячески сопротивляется демократическим реформам и готова ухватиться за любой миф, лишь бы он оправдывал ленивое неприятие перемен. Зачем, в самом деле, трудиться над совершенствованием этого «падшего» мира, активно участвовать в модернизационных процессах, отстаивать реальную свободу и эти ужасные, с Запада навязываемые права человека. Не лучше ли воспылать абстрактной любовью к человеку и, подобно Емеле из популярной русской сказки, творить чудеса из ничего, по щучьему велению, лёжа на печи? Любовь эта тоже не от мира сего, любят не кого-то конкретно, а самих себя, любящих.
Бердяев был, несмотря на все утопические мотивы своей философии, великим русским философом, которым вправе гордиться Россия. Он показал ведущую роль творчества в развитии человека. Он доказывал способность человеческого творчества освобождать человека от гнёта негативных обстоятельств, преодолевать жестокость и несвободу материального, бесчеловечно эволюционирующего мира. Отрицая всеобщность эволюции и подвергая резкой критике научный и философский эволюционизм своего времени, он в то же время внёс идею творческого развития и эволюционные мотивы в религиозную философию, стремясь к выработке и систематизации нового религиозного мировоззрения. При всей своей утопичности это мировоззрение способствовало выработке предпосылок целостной системы научной веры. Отрицая научность философского мышления, Бердяев в равной степени отрицал и религиозность, основанную на покорности и порабощении человека. Именно Бердяев выдвинул гениальную идею прибыли творческого развития, которая послужила нам источником идеи эволюционной прибыли.
Религиозный персонализм и антропологизм Бердяева оказал значительное влияние на развитие западной философии и прежде всего – на философию экзистенциализма. Изгнанный из своей страны правительством «новой» коммунистической России, Бердяев отплыл на знаменитом философском пароходе и в конечном счёте поселился в пригороде Парижа Кламаре, где прожил с 1924 г. до самой смерти в 1948 г. Длительное пребывание на Западе позволило соединить русскую философскую традицию с западноевропейской. Значительная популярность философского творчества Бердяева на Западе объяснялась созвучностью его идей западноевропейской ментальности, поиском оснований духовной свободы, религиозного обновления и особенно критикой мировоззренческих основ советского коммунизма, в котором Бердяев едва ли не первым обнаружил замаскированное фанатическим атеизмом религиозное содержание.
Влияние западноевропейской культуры несколько сгладило религиозный радикализм Бердяев, отражённый в «Смысле творчества». И хотя он разделял многие «почвеннические» иллюзии, ему был чужд амбициозный российский шовинизм, который постоянно препятствует развитию России, служа идеологической опорой деспотической власти. Бердяев резко критиковал славянофилов и евразийцев, ненавидел российское самодержавие, одним из первых обнаружил воссоздание и усугубление самодержавных порядков в системе власти российского коммунизма. Он безусловно обладал эволюционно-историческим видением и гуманистическим взглядом на историю, несмотря на то, что в книге «Смысл истории» и в других работах не раз подвергал ожесточённой критике и историзм, и гуманизм, и идею прогресса, и попытки научного объяснения истории.
Всё это позволяет более чётко определить значение Бердяева в мировой философии, выявить его роль в развитии философско-исторического эволюционизма и отделить его взгляды от «бердяевщины» – вульгарного истолкования многих его положений со стороны идеологов нового противостояния России с Западом. Они называют себя патриотами и в то же время губят Россию, препятствуя инновационному развитию её экономики, прогрессу демократических институтов, дебюрократизации управления. Сталкивая Россию к конфронтации с Западом, они консервируют состояние России в качестве сырьевого придатка Запада. Нет худшего врага России, чем ее ультрапатриоты.
В силу огромного интеллектуального авторитета Бердяева постоянно возрастает стремление ультрапатриотов и ультраконсерваторов опереться на этот авторитет, утрируя и преувеличивая далеко не самые лучшие стороны его философского наследия. Они и берут от Бердяева всё самое худшее и игнорируют самое лучшее. Им больше всего импонирует критика Бердяевым величайших достижений человечества – научности, гуманизма, эволюционизма, демократии, политической свободы, предпринимательства, промышленного развития, технического прогресса и т. д. Антипрогрессизм Бердяева действительно настолько глубок, что он видит в развитии техники проявления «чёрной магии». Очень привлекательна для ультраконсерваторов антибуржуазная ментальность Бердяева. Но особенно привлекательно для них его русское мессианство. Эти смешные потуги использовать экономическую и политическую отсталость России для того, чтобы превратить её в духовного лидера страждущего человечества подпитываются болезненными амбициями русского национального самосознания и наносят колоссальный вред прогрессивному развитию России, увековечивают её отсталость. Мессианство Бердяева весьма своеобразно и не очень вписывается в прокрустово ложе великодержавного мессианства.
«Официальный русский мессианизм, связанный с господствующей церковью и господствующим государством, – недвусмысленно заявляет Бердяев, – прогнил и разложился» (Там же, с. 523). Он возлагает надежды на иной мессианизм, который «может быть признан и западным человеком, чтящим свою великую и священную культуру» (Там же). В своё ожидание проявлений мессианской роли русской культуры Бердяев вкладывает свою веру в чудо. Это чудо связано с неприятием русской ментальностью буржуазной культуры. Бердяев не видит в этом опасности для России. Отторжение «буржуазной» культуры вполне закономерно привело к созданию «пролетарской», которая и стала воплощением российского коммунистического мессианства.
В отличие от ура-патриотов, Бердяев вполне осознаёт угрозу со стороны массового бескультурья и колоссального разрыва между огромным большинством населения и тонким слоем высококультурной интеллигенции. «У нас всегда и во всём средний уровень очень низок. В строгом европейском смысле слова в России почти что и нет культуры, нет культурной среды и культурной традиции. В низах своих Россия полна дикости и варварства, она в состоянии докультурном, в ней первобытный хаос шевелится. Эта восточная, татарская некультурность и дикая хаотичность – великая опасность для России и её будущего» (Там же, с. 524).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.