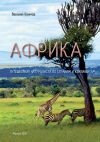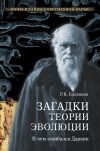Автор книги: Лев Кривицкий
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 193 (всего у книги 204 страниц)
Недоразвитие и редукция зубов у птиц связаны с направлением филогенетической тренировки, поддержанной отбором, при которой исключалось пережевывание пищи, а ее усвоение потребовало переразвития соответствующих отделов в органах пищеварения. Такое направление филогенетической тренировки было связано также с приспособлением к полету, поскольку основой добывания пищи стал удар клювом сверху, а не ее удержание из горизонтального положения тела. Конечно, если бы эволюция птиц ограничивалась онтогенетической тренировкой, как это полагают ламаркисты, клюв никогда бы не сформировался.
Итогом филогенетической тренировки как необходимой составляющей биологической работы организмов является именно разработка морфофизиологическох инструментов и приспособлений, пригодных для «гонки вооружений» в конкретной экологической среде, их апробирование и отшлифовка движущим отбором, а также автономизация их выработки в онтогенезе от непосредственных инициирующих воздействий среды и их закрепление в ряду поколений стабилизирующим отбором при постоянстве дальнейшей биологической работы.
Весьма важно осмыслить и следующий пример Шмальгаузена:
«При редукции крыльев у насекомых очень часто сохраняются развитые крыловые мышцы; в частности, у бабочек с редуцированными крыльями почти всегда имеются нормальные мышцы. Между тем ведь именно мышцы должны были бы в первую очередь исчезнуть вследствие неупотребления. Хитиновые крылья сами не содержат живых тканей и вряд ли могли бы реагировать на упражнение или неупражнение. Наряду с этим мы знаем у мухи-дрозофилы многочисленные мутации недоразвитых крыльев, причем мышцы остаются вполне нормальными. Поэтому гораздо большую вероятность приобретает дарвиновское объяснение редукции крыльев насекомых через посредство естественного отбора индивидуальных вариаций (мутаций) с недоразвитыми крыльями» (Там же).
По этому поводу можно сказать следующее. Во-первых, дарвиновское объяснение не исключает, а как раз предполагает участие употребления или неупотребления органов при отборе наиболее конкурентоспособных организмов, что, в сущности, не раз признавал в своих книгах и Шмальгаузен. Во-вторых, проблема эволюционного значения употребления – неупотребления органов не так проста, а ее решение не столь прямолинейно, как это полагают ламаркисты и их критики. Если бы эта проблема решалась простым наследственным усвоением результатов онтогенетической тренировки, крылья подобных насекомых не могли бы редуцироваться раньше мышц.
В-третьих, при переходе бабочек или прочих насекомых к способам передвижения в пространстве, исключающем использование крыльев, изменяется вся система производимой их организмами биологической работы, а не только возникает неиспользование крыловых мышц. Соответственно недоразвитие крыльев сопровождается переразвитием других двигательных органов, которые испытывают возросшие нагрузки и подвергаются из поколения в поколение усиленной филогенетической тренировке. В результате хитиновые крылья при недостаточном снабжении питательными веществами недоразвиваются и обламываются именно потому, что они, хотя и содержат живые ткани, но в основе своей представляют собой минеральное вещество органического происхождения. При этом крыловые мышцы остаются в целости и сохранности в качестве атавизмов.
Привлекая очень значительный арсенал фактов эволюционной морфологии, Шмальгаузен показывает несостоятельность ламаркистской теории адекватной соматической индукции. Полностью дистанцируясь от всех видов ламаркизма, Шмальгаузен дает ему весьма суровую общую характеристику:
«Ламаркизм во всех своих видоизменениях всегда оставлял огромное число фактов не только неразрешенными, но и принципиально неразрешимыми» (Там же, с. 153). «Дарвинизм и ламаркизм разделены целой пропастью. Это разные мировоззрения. Общим для всех видов ламаркизма является сведение эволюции к результатам физиологических процессов (модификационной изменчивости) и к отрицанию творческой роли отбора» (Там же, с. 154). «Он не удовлетворяет нас своей методологией, он вообще не является всеохватывающей теорией эволюции, оставляя в стороне важнейшие ее основы. Ламаркизм не только не охватывает всех фактов эволюции организмов, но дает лишь кажущееся объяснение и тех фактов, которые приводятся его сторонниками как доказательство правильности». (Там же).
Претензии Шмальгаузена к ламаркизму во многом справедливы. И все же ламаркизм внес огромный вклад в теорию эволюции, он был первой в истории науки, все ещё очень несовершенной теорией эволюции. В XX веке именно ламаркисты, как и Шмальгаузен, вопреки господствующим в науке геноцентристско-мутационистским взглядам на эволюцию, защищали и развивали идею активности организмов в эволюции и отстаивали важнейшее значение этой активности в эволюционных преобразованиях видов.
Огромное множество фактов морфологических изменений, на которые опирался Шмальгаузен при развитии эволюционной морфологии, также были открыты усилиями ламаркистов и ламаркодарвинистов. На протяжении всего XX века ламаркисты составляли оппозицию господствующим мутационистским представлениям, не давая эволюционной биологии окончательно «засохнуть» и превратиться в мумию, в омертвевшее и затвердевшее, утратившее живой поиск собрание геноцентрических положений. Шмальгаузен в своей конструктивной оппозиции геноцентрическому неодарвинизму во многом опирается на проблемы, поднятые в работах ламаркистов, переосмысливая их в духе дарвинизма. И заблуждались неоламаркисты в своих научных построениях ничуть не больше неодарвинистов.
Это и отмечает Шмальгаузен в своей не менее бескомпромиссной критике неодарвинизма (хотя и затрагивает в своей критической рефлексии только первоначальный этап его развития). Он пишет:
«Обычно полагают, что неодарвинизм – это больше, чем дарвинизм, или даже что это более последовательный дарвинизм, дарвинизм, очищенный от элементов ламаркизма, которые будто бы имеются в теории Дарвина. Неодарвинизм якобы не признает никаких факторов эволюции, кроме естественного отбора, и не признает наследования результатов морфофизиологических реакций организма. Предполагается, что неоламаркизм и неодарвинизм – это два различных полюса, между которыми лежит дарвинизм самого Дарвина и некоторых его последователей, таких как Геккель и др. Это неверно» (Там же, с. 155–156).
Шмальгаузен сознательно стремится представить как ламаркизм, так и неодарвинизм в качестве антидарвинистских направлений теоретической мысли. Он даже утверждает, что «несмотря на резкие расхождения с неоламаркизмом, неодарвинизм по своей методологической основе стоит неизмеримо ближе к неоламаркизму, чем к истинному дарвинизму» (Там же, с. 156). Вряд ли с этим можно согласиться. Неодарвинизм и неоламаркизм – все-таки антиподы как в научно-теоретическом, так и в методологическом измерении. Однако Шмальгаузен имеет все основания ля того, чтобы видеть в неодарвинизме и в теоретических построениях его основателя А.Вейсмана столь же сильное выражение механистического мировоззрения, как то, что присуще механоламаркизму и его основателю Г.Спенсеру.
Критикуя Вейсмана, Шмальгаузен прежде всего выделяет в его теоретических построениях типично механистическое представление об организме как мозаике отдельных признаков, изменяющихся независимо друг от друга. Столь же механистично и представление Вейсмана о первоисточнике изменчивости организмов, которым, по Вейсману, является воздействие внешних факторов на зачатковую плазму, по-разному сказывающееся на различных ее детерминантах. Отбор также рассматривается Вейсманом в качестве механического фактора, решета, браковщика, лишь уничтожающего негодные формы, что ведет к отрицанию творческой роли отбора.
Шмальгаузен показывает и значение даже ограниченных, во многом неверных взглядов Вейсмана для развития генетики. При этом он совершенно умалчивает о том, что именно теория зачатковой плазмы Вейсмана установила барьер между наследственной и соматической частями организма, тем самым впервые в истории науки обосновав несостоятельность ламаркистской концепции наследования приобретенных признаков.
Противопоставляя неодарвинизму Вейсмана доказанное на фактах эволюционной морфологии представление об организме как целом в индивидуальном и историческом развитии, Шмальгаузен выявляет двойственное влияние идей Вейсмана на дальнейшее развитие эволюционной генетики. Это влияние с одной стороны породило в генетике мутационизм и представление об обособленном действии генов на признаки, а с другой – способствовало продвижению науки в изучении наследственности.
«Представление о наследственных единицах как определителях отдельных признаков и свойств организма, – отмечает Шмальгаузен, – было воспринято генетикой. Представление об организме как мозаике независимо друг от друга меняющихся признаков было воспринято мутационной теорией и долгое время держалось, главным образом, среди генетиков… Эти представления имели в свое время большое прогрессивное значение. Представления о независимости наследственного вещества, о его дробимости и о его стойкости были утрированы в дальнейшем развитии генетики, но они заключали здоровое ядро, которое сильно помогло в изучении законов наследственности» (Там же, с. 158).
Показывая легкость перехода от своеобразного «ультрадарвинизма» Вейсмана («Вейсман полагал, что это именно и есть дальнейшее развитие дарвинизма, который он ставил очень высоко» – там же, с. 158) к антидарвинизму мутационной теории де Фриза («Гуго де Фриз по своим взглядам близко примыкает к Вейсману. Вместе с тем по своим взглядам он, однако, уже вполне сознательно противопоставляет свою теорию учению Дарвина» – там же), Шмальгаузен как бы подтверждает свой тезис о том, что «вопреки своему названию, неодарвинизм по своей сути оказывается в том же антидарвинистическом лагере, что и неоламаркизм» (Там же, с. 156).
Тезис этот сам по себе, конечно же, неверен. Как бы то ни было, именно ранний неодарвинизм Вейсмана, которым у Шмальгаузена ограничивается критика неодарвинизма вообще, лежал у истоков создания и развития синтетической теории эволюции, которая также явилась теорией неодарвинистской. В позднем неодарвинизме синтетической теории эволюции дарвинизм, безусловно, получил дальнейшее развитие на основе развития эволюционной генетики, хотя это развитие, включившее в себя геноцентризм и усечённый мутационизм, но практически исключившее активность организмов как фактор эволюции, было, безусловно, односторонним, и связано с утратой некоторых преимуществ классического дарвинизма.
Шмальгаузен подвергает критике лишь ранний мутационизм – мутационизм де Фриза и первоначального периода развития генетики. Поздний мутационизм, мутационизм неодарвинистов, ставших создателями синтетической теории эволюции, он, наоборот, поддерживает. Он постоянно подчеркивает, что все известные науке и исследованные генетикой мутации вредны и приводят к снижению жизнеспособности целостных организмов. Но комбинации мелких мутаций, накопленные в непроявленном гетерозиготном состоянии в популяциях организмов, могут в новых условиях быть подхвачены и творчески преобразованы отбором, что обусловливает их проявление в качестве единственного источника наследственного материала и всего нового в эволюции.
Такой усечённый и неодарвинистски переосмысленный мутационизм Шмальгаузена приемлет и отстаивает, хотя он не более доказателен, чем ламаркистский принцип наследования приобретенных признаков и хотя этот мутационизм во многом противоречит фактам и выводам эволюционной морфологии, в частности, выводу о руководящей роли модификаций в эволюции и способности модификационных изменений порождать новое в эволюции и тем самым направлять ход отбора. Указанные недостатки собственного неодарвинизма Шмальгаузена не снижают, тем не менее, колоссального значения развитой им эволюционной морфологии, явившейся прологом и подготовительным этапом для развития дарвинизма XXI столетия.
1948 год стал роковым как для Шмальгаузена, так и для всей научной биологии в СССР, которая после своего идеологического погрома на сессии ВАСХНИЛ подверглась преследованиям, сопоставимым только с деяниями инквизиции. Одновременно подобные гонения готовились на физическую науку, однако физикам удалось объяснить сталинскому руководству, что признание теории относительности и квантовой механики «продажными девками буржуазной идеологии» (как это было сделано с генетикой и кибернетикой) сделает невозможным создание атомной бомбы.
Шмальгаузена иногда упрекают в том, что на сессии ВАСХНИЛ 1948 года он якобы сдал свои позиции и стал оправдываться перед лысенковцами, вместо того, чтобы использовать свой громадный научный авторитет для защиты нормальной науки. Те, кто так считает, совершенно не понимают ни природы сталинизма, ни той обстановки «охоты на ведьм», которая сложилась 5 августа 1948 года. Когда Шмальгаузен, ещё не выздоровевший от тяжелой болезни, вышел на трибуну и пытался разъяснить предвзятой и враждебно настроенной аудитории основы своих взглядов на эволюцию, в системной форме изложенные в учебнике «Проблемы дарвинизма», он повторил свою критику неодарвинизма и ранней генетики, ответил на выдвигавшиеся против него злобные обвинения, искажающие его взгляды. В заключение он даже похвалил Лысенко, назвав его «достижения» замечательными. Не помогло. Для Шмальгаузена начинается период неопубликованных работ (См. Шмальгаузен И.И. Вопросы дарвинизма: Неопубликованные работы – М.: Наука, 1990 – 160с.).
Имя Шмальгаузена как лидера антилысенковской оппозиции было занесено в «черный список», и ни один печатный орган на протяжении многих лет не принял эти работы к опубликованию. В них Шмальгаузен, несмотря на всю безнадежность своего положения, не только продолжает борьбу с ненавистной ему лысенковщиной, но и развивает и уточняет некоторые моменты эволюционной морфологии. Снятый со всех постов в Академии наук, потерявший возможность публиковать свои произведения, обреченный на доживание в качестве заведующего малозаметной лабораторией, Шмальгаузен продолжает необычайно интенсивную исследовательскую работу в сфере морфологии животных.
В период разработки на Западе синтетической теории эволюции как системно организованного итога развития неодарвинизма Шмальгаузен, немало сделавший для становления этого синтеза на ранних его этапах, оказался полностью изолированным от мирового научного сообщества. И тем не менее его идеи, выдвинутые и обоснованные на базе эволюционной морфологии, во многом превзошли неодарвинистский синтез. Нельзя не согласиться с авторами предисловия к сборнику неопубликованных работ Шмальгаузена А.Ивановым, И.Медведевой и Э.Воробьевой, которые утверждают, что Шмальгаузен «заложил фундамент качественно более совершенного по сравнению с СТЭ эволюционного синтеза» (Там же, с. 8).
Во всяком случае работы Шмальгаузена в их совокупности, базирующиеся на достижениях эволюционной морфологии, выходят за рамки СТЭ, составляют ей в известной мере действенную альтернативу и открывают собой переходный от монополии СТЭ к созданию более совершенного эволюционного синтеза, создавая для него многие необходимые предпосылки.
Хрущёвская «оттепель» не принесла ожидавшегося нормальными учеными разоблачения лысенковщины, поскольку при личном знакомстве Хрущёва с «достижениями» народного академика, тому удалось показать товар лицом и выдать результаты тщательного ухода за растениями и животными (резко отличавшиеся от того, что происходило на колхозных полях и фермах) за успехи селекционной деятельности. Кроме того, руководитель СССР и руководитель сельскохозяйственной науки по уровню безграмотности и авантюризма в нововведениях в сельском хозяйстве ни в чем не уступали друг другу. Поэтому доминирование лысенковщины продолжалось до самого свержения Хрущева в 1963 году, то есть до года смерти Ивана Шмальгаузена.
Однако в годы «оттепели» монополия Лысенко и его приспешников на публичное выражение взглядов была ограничена, что позволило ученым, подвергаясь зубодробительной критике со страниц коммунистических газет, все же продолжать исследования и публиковать некоторые научные материалы. В этот период Шмальгаузен не только пишет яркие публицистические статьи, разъясняющие шарлатанство и научную несостоятельность сторонников лысенковщины, но и открывает новое направление своего научного творчества, связанное с использованием в эволюционной биологии кибернетических моделей и основ теории информации.
29.7 Эволюционная морфология и биокибернетикаВ последние годы своей жизни Шмальгаузен продолжает упорно работать и совершает новый рывок в изучении внутренних механизмов эволюции – он создает основы биокибернетики, науки о связи и управлении в живой природе и в живых организмах. Эволюционная морфология Шмальгаузена и раньше строилась на понимании биологической эволюции как регуляторного процесса, осуществляющегося на всех уровнях организации жизни. С созданием кибернетики и информатики появилась возможность конкретизации механизмов регуляции в живой природе на базе аналогии между кибернетическими устройствами и саморегулирующимися системами жизнеобеспечения.
Написав множество статей, посвященных проблемам биокибернетики, Шмальгаузен собирался создать обширную монографию по этим проблемам и даже успел подготовить черновые наброски нескольких глав. К сожалению, смерть прервала работу над этим новым обобщающим трудом и не позволила провести комплексное исследование механизмов эволюции с точки зрения процессов управления, самонастройки и самоорганизации живых систем. Материалы этого исследования были собраны после смерти ученого и опубликованы в отдельной книге (Шмальгаузен И.И. Кибернетические вопросы биологии – М.: Наука, 1967 – 327с.).
Величайшее открытие генетики – выявление в 1953 году Уотсоном и Криком информационного устройства структур ДНК и расшифровка генетического кода создало весьма основательные предпосылки для кибернетического истолкования генетических процессов и рассмотрения наследственности с позиций теории информации. Для Шмальгаузена это было особенно важно, поскольку использование кибернетики в решении проблем наследственности позволяло найти связку между фактами генетики и фактами эволюционной морфологии, а не подчинять всю эволюционную биологию тому состоянию генетической науки, которое сложилось в данный момент времени.
Следовательно, попытка синтеза генетики и кибернетики была нужна Шмальгаузену для того, чтобы привязать генетику к эволюционной морфологии, а не плестись у нее в хвосте, сверяя каждый шаг в исследовании эволюции жизни с тем, что в данный момент показали манипуляции в пробирке с дрозофилами. Источником недовольства Шмальгаузена, разумеется, была не сама по себе генетика, а диктат геноцентризма в эволюционной науке.
«Первые успехи генетики, – констатирует Шмальгаузен, – привели, как это обычно бывает, к значительной переоценке ее достижений. Генетикам того периода казалось, что для объяснения всего эволюционного процесса достаточно лишь двух изучаемых ими явлений – изменчивости и наследственности. После более внимательного анализа пришлось добавить ещё свободу скрещивания и изоляцию. Генетики пришли, правда, и к признанию значения естественного отбора, но первоначально лишь в его отрицательной форме – в качестве уничтожающего фактора. Лишь в последнее время пробивает себе дорогу понимание положительной роли естественного отбора как фактора, создающего такие редкие комбинации и комплексы наследственных единиц – генов, которые без направляющего действия отбора практически никогда бы не осуществились» (Там же. С. 19).
Ранее в своих книгах Шмальгаузен настаивал на ведущей роли именно отрицательной, элиминирующей стороны отбора, что, безусловно, было связано с необходимостью приспособления теоретической базы эволюционной морфологии к чересчур переоцененным успехам генетики. Здесь он уже не видит такой необходимости и прямо заявляет об ограниченности эволюционных горизонтов генетики и о необходимости ревизии ее вклада в теорию эволюции. Особенно это касается популяционной генетики, которая сыграла важнейшую роль в эволюционных представлениях XX века.
«Быстрое развитие генетики, и в частности, популяционной генетики, – продолжает свою методологическую рефлексию над генетикой Шмальгаузен, – не сопровождалось, однако, таким же прогрессом других биологических дисциплин. Поэтому синтез новых данных на современном уровне оказался невозможным. Вместо него произошло поглощение дарвинизма генетикой: дарвинизм был заменен «генетической теорией естественного отбора». Эта теория дает очень много, но она не охватывает всей сложности эволюционного процесса и не может объяснить всех его закономерностей» (Там же, с. 19–20).
Ранее, как мы помним, Шмальгаузен характеризовал генетическую теорию естественного отбора как торжество современного дарвинизма, как результат синтеза генетики и дарвинизма. Здесь же он, вполне признавая важность популяционной генетики для развития теории эволюции, прямо характеризует генетическую теорию отбора как поглощение генетикой дарвинизма. Более того. В конце 50-х – начале 60-х годов зарубежные коллеги Шмальгаузена постоянно писали о завершении эволюционного синтеза генетики со всем комплексом биологических дисциплин и создании на этой основе синтетической теории эволюции.
Шмальгаузен же не только не употребляет этого термина, но и прямо заявляет, что вследствие поглощения генетикой эволюционного потенциала других биологических дисциплин синтез новых данных на современном уровне оказался невозможен. В чем же причина столь неудовлетворительного состояния попыток эволюционного синтеза? Шмальгаузен четко определяет эту причину:
«При таком подходе в стороне остается индивидуальное развитие организмов, которое не может не влиять на эволюцию, так как отбор идет по фенотипам. Вместе с тем игнорируется сам организма как активный строитель своей жизни. Естественный отбор выступает в популяционной генетике как внешний фактор по отношению к организму. Направленность вносится в эволюционный процесс извне, а не является результатом сложного взаимодействия внешних и внутренних факторов» (Там же, с. 20).
Потратив целое десятилетие своей жизни на защиту генетики от лысенковских инквизиторов, Шмальгаузен вместе с тем хорошо понимает, что на генетическом селекционизме не может быть построен полноценный эволюционный синтез, что генетическая теория естественного отбора не может объяснить видообразования и может претендовать лишь на изучение внутривидовой дифференциации. Оставляя за рамками исследований активность организмов и ее взаимодействие с отбором, популяционная генетика вместе с тем дает слишком упрощенное, а возможно, и искаженное представление об эволюции. Отсюда вывод:
«Конкретное изучение механизмов, регулирующих эволюционный процесс, нуждается, по-видимому, в новом подходе и в новых методах. Такие методы может быть удастся найти, если подойти к проблеме регуляции эволюционного процесса с новых позиций, диктуемых учением об автоматически регулируемых устройствах – кибернетикой» (Там же).
Кибернетика, преследуемая в СССР в качестве «буржуазной лженауки», должна, как полагает Шмальгаузен, прийти на помощь генетике и скомпенсировать ее недостатки в рассмотрении регуляторных процессов эволюционно значимой перестройки организмов. А кроме того, Шмальгаузен стремится опереться на возрастающий авторитет кибернетики, чтобы создать некий противовес давлению геноцентрических представлений на эволюционную морфологию. Конечно, он осознает условность и относительность аналогии между сложными техническими системами, изучаемыми кибернетикой, и сложными живыми системами, изучаемыми всем комплексом биологических наук.
Уже само сопоставление «мертвых» механизмов с живыми существами показывает сложность получения новых знаний посредством использования биокибернетики. Шмальгаузен фактически использует то, что мы называем системно-кибернетическим способом восприятия явлений, то есть теоретизированным способом отражения объектов действительности, которое становится возможным не непосредственно, через органы чувств, а лишь посредством системно-кибернетического моделирования, своего рода теоретического «микроскопа». Прежде всего Шмальгаузен обосновывает методологию применения этого «прибора»:
«Определение кибернетики как науки об автоматическом управлении охватывает не только механизмы машин, но и живые организмы. Это не значит, что между различными управляемыми устройствами ставится знак равенства. Между ними существует только аналогия… Каково же значение аналогии между живым организмом и автоматически управляемыми устройствами? Конечно, происхождение, конструкция, функционирование и его результаты у этих устройств совершенно различны. Однако у всех автоматически регулируемых механизмов имеется нечто общее не только между собой, но и с работой живого организма. Собственно, это не должно нас удивлять: ведь регулирующие устройства создаются человеком для замены человеческого труда… Авторегуляция достигается самыми различными средствами, но общие принципы ее осуществления оказываются одинаковыми» (Там же, с. 20–21).
Регуляция посредством работы – вот то общее, на котором строится аналогия эволюционной морфологии и кибернетики. А управление предполагает действие определенных структур, обладающих способностью к саморегуляции и производящих для этого соответствующую работу. Фактически аналогия между живыми и автоматически регулируемыми техническими системами раскладывается на целую группу аналогий. Первая и, пожалуй, главная из этих аналогий заключена в строении клетки.
Таково «сходство построения наследственного аппарата клетки с программой сложного автоматического устройства, записанного в виде условного кода», в отношении которого Шмальгаузен высказывает надежду, что оно «поможет пролить свет на многие закономерности, изучаемые генетиками» (Там же, с. 21).
Такое сходство дополняется аналогией между передачей наследственной информации и передачей сообщений по линиям связи. «С точки зрения теории информации можно себе представить передачу любого сообщения путем чередования четырех только знаков-пар оснований молекулы ДНК, подобно тому как азбука Морзе пользуется также лишь четырьмя знаками (точка, тире, перерыв и двойной перерыв)» (Там же, с. 14). Это – вторая аналогия.
Третья аналогия заключается в наличии обратной связи между управляющим устройством и объектом управления. Весьма характерно, что рассмотрение обратных связей Шмальгаузен сразу же начинает с возможности наличия таковых между наследственной структурой клеток и развивающимся организмом, то есть его соматическими структурами, отделенными от наследственной информации барьером Вейсмана. Прислушаемся к его рассуждениям:
«Все автоматически регулируемые устройства характеризуются наличием обратной связи между регулируемым объектом и регулятором. Сигналами обратной связи подается и информация о действительном состоянии объекта. Эта информация преобразуется затем вновь в прямые сигналы, регулирующие дальнейшее изменение объекта. Средства обратной связи между развивающимся и дифференцирующимся организмом и наследственной структурой его клеток представляют еще непочатый край научного исследования (как и вообще система внутренних регуляторных механизмов онтогенеза, которые, за исключением немногих корреляционных систем и процессов регенерации, еще очень мало изучены). Большое значение имеет также изучение средств преобразования информации» (Там же, с. 21).
Уже само положение о наличии обратной связи между соматическими структурами и генетическими структурами половых клеток означает проницаемость барьера Вейсмана. Речь, в сущности, идет о новом пангенезе, который имеет не механическую, как у Дарвина, а информационную природу, и может быть реализован не прямо от поколения к поколению, а лишь посредством отбора соответствующих структур в большом числе поколений.
Следовательно, необходимо направить усилия исследователей, и прежде всего генетиков, на изучение процессов обратной связи между соматическими и генетическими структурами, которая все еще совершенно не исследована и к тому же категорически отрицается неодарвинистами. При этом необходимо учитывать не только поступление сигналов обратной связи, но и преобразование поступающей информации в работе генетических структур.
В этом отношении, полагает Шмальгаузен, важен учет следующей, четвертой аналогии:
«Несомненно, здесь, как и в технике, широкое использование специфических усилителей. Каждый формообразовательный процесс индуцируется ничтожными влияниями, но реализуется в размножении, перемещении и дифференцировке больших клеточных масс. Преобразование прямой информации протекает в индивидуальном развитии путем последовательных двоичных выборов. На каждом этапе, в каждой части формообразовательной системы происходит реализация одной из двух возможных клеточных реакций» (Там же).
Итак, в индивидуальном развитии организмов, как и в компьютерах, создание которых началось еще при жизни Шмальгаузена, работает двоичная система символов, обозначенных в кибернетических устройствах при помощи различения нуля и единицы. Ничтожные индуцирующие влияния в раннем онтогенезе приводят к неадекватным им, очень значительным последствиям в процессах дальнейшего размножения и специализации клеточных структур. Это становится возможным только с использованием усилителей, которые вырабатываются развивающимися организмами в виде биологически активных веществ.
Все это заставляет, по мнению Шмальгаузена, пересмотреть многие уже устоявшиеся и кажущиеся всесторонне проверенными научные положения, касающиеся теории эволюции:
«Уже сказанное свидетельствует, что новый подход к анализу жизненных проявлений организмов, и особенно к их индивидуальному развитию, открывает широкое поле научного исследования. Этот новый подход заставляет обратить внимание на такие явления, которые обычно от нас ускользали. Он подчеркивает значение каналов связи между наследственным аппаратом клетки и продуктами дифференцировки путем обратной связи между этими результатами развития и их наследственной основой и особенно средств преобразования этой информации в регуляторных системах. Отсюда возникает надежда, что в свете наиболее общих принципов устройства автоматически регулируемых механизмов можно рассматривать и проблему эволюции» (Там же, с. 21–22).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.